Былинки
– это собрание зарисовок и заметок о жизни, размышлений над вполне
обыденными событиями, кратких по форме. Того, что было и что оставило во
мне свой след. Зачастую бывает так, что в малом отражается вся
повседневность наша, со всеми её изломами и извитиями. Вещи вдруг словно
проговариваются о своей сути. И заметить это означает посмотреть в
перспективе на тот путь, которым мы идём. Увидеть мир в его подлинности и
настоящности. Это приглашение к соразмышлению над современностью, повод
оглядеться и призадуматься.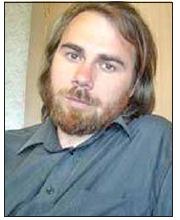
Сны
о детстве
Потянет душу во дни вешнеталицы перелётным косяком на север, к родному домовью…
Вспомнится вдруг, как мы мальчишками, забравшись на обсохлый пригорок, искали уже наросшую заячью капусту, на вкус кисловатую и колючую. Складником (без которого ни один деревенский мальчишка себя не мыслил) выкапывали хлипкие, с тонким стебельком хлебенки, напоминавшие сладившую картошку из погреба.
А солнышко полдневное и ветерок – тёплые да ласковые, что ладони мамы. И землёй так пахнет – не сказать мне, слов таких не найти.
Тогда мог, забыв обо всём, долго-долго смотреть, как меж травинок трудолюбивый и мудрый муравей старается унести свою ношу. Вот ведь, не для себя, а к собратьям тянет, хлопотливо суетясь. Зачем несёт, кто повелел и как дорогу находит? Всё удивляло тогда, до всего было дело. Вот вымыло в колее с золотым блеском камушек – пирит. Что за камень, может, золото? Забот на день.
Какая радость была в этих весенних днях: шумливые ручейки, резво несущиеся в лога, парчой сияющий на солнце снег, уже осевший, по утрам лежащий твёрдым настом. На укатанной санными полозьями дороге вытаивают конские катыши, очёски сена и соломенная полова. Потемневший лес за огородами зябнет в сырости. Вот-вот скворцы прилетят, начнутся птичьи перебранки с воробьями по квартирному вопросу.
Есть тайность и странность в человеческой памяти: детство навсегда прошло, но закрываю глаза – и вот оно – рукой дотянуться можно и шагнуть из этих взрослых тяжёлых лет в ясносолнечный незаходимый день, нескончаемо длящийся под высоким куполом неба. Иногда проснусь осеред ночи, в самый глубокий час её – и с закрытыми глазами начинаю слушать настоявшуюся будто индийским чаем тишину. Как разливистым водопольем найдёт далёкое прошлое, и заторопит, и понесёт в свои невесомые дали. И так вдруг покажется, что я ещё мальчишка, лежу на своей детской кровати в родном доме, а всё, что потом, мне просто приснилось – и институт, и армия, и скитания, и утраты, и города, и разлуки. Надо же – такое снится! Вздохнуть бы – и забыть этот сон, зная, что утром разбудит мама прикосновением ласковой ладони – как того вешнего солнышка. Знать, что мамы не умирают, ведь не могут умереть они – ясноглазые, самые добрые и нежные, похожие на ангелов.
Утром надо в школу, а уроки по математике с вечера не сделал. Может, всё-таки пронесёт. После уроков будем с ребятами строить запруду на талом ручье. Но это всё завтра… Натянув на себя одеяло, вновь засыпаю, уплывая восьмилетним капитаном в лазорево-дымчатый горизонт детства.
Чтобы
помнили
Дочка начинает ходить. И боязно ей, и хочется пойти без опоры. Убирая руку от дивана, приседает от неожиданности, вновь встаёт, что-то возмущённо лопочет. И вдруг с улыбкой поднимает личико. «Ведь правда, папа, я хорошая?!» Ах, дочка…
Вспомнилась мне поездка с одним иеромонахом, служащим при храме детского дома, в приют женского монастыря. Приехали поздравить с именинами воспитанницу детдома, переведённую сюда. У монастырских ворот нас уже ждала девочка лет восьми, Аня, тонкая да звонкая, лёгкая да ясная, будто ветерок летний, девочка с лицом ангела.
Были поздравления, подарки и чаепитие. Аня вся светилась от радости. Сёстры-воспитательницы нахваливали: уж до чего прилежная и трудолюбивая, добрая да разумная! В приюте девочке так поглянулось после детдомовской казёнщины, что расцвела она отзывчивой душой и всяким умением. Аня показывала и рисунки свои, и первую вышивку, и обширное монастырское хозяйство со всей его живностью. И всё же видно было, что в ней, как во всяком ребёнке, душа просилась в семейный уют, под родительский кров, как просится в дом выброшенный на холод котёнок, слабыми коготками царапаясь в дверь. «Ведь правда, я – хорошая?! Ведь правда?!»
Ехали обратно сквозь багряно-янтарный лес. Среди разлившейся прозрачной тишины стояли рощицы тонкоствольных берёзок под приглядом осанистых елей, застывших в вековечных думах. С их разлапистых веток свисал зеленовато-пепельный мох, словно старческая проседь времени. Казалось, мчалась ещё этим лесом конная дружина Евпатия Коловрата, позвякивая стременами и посверкивая кольчугами, всё пытаясь настигнуть ворога, поганящего Русь. Неслись они, древние и седобородые витязи, и не могли настигнуть, заставая на пути лишь пепелища и разор. Осеннее шафрановое солнце катилось над нами по овершьям деревьев. Старинной исщербленной сталью взблескивали излучины тихих старорусских рек с певучими былинными именами. Изредка выбегали на обочины нищие, точно разграбленные деревеньки и юродливо щурились подслеповатыми окнами. Будто выпрашивая на опохмелку, пьяненько куражась и приплясывая, они всё выпячивали голые рёбра скосившихся дощатых заборов.
И грызли меня дорогой вопросы: «Где сейчас родители девочки, оставившие её в детдоме? Как живётся-можется им? Как строят они своё счастье? И как спится им по ночам, не ведавшим терзаний маленького детского сердца, всё пытающегося найти вину в себе за то, что отреклись от него родители».
Стояла девочка у ворот и махала нам вслед своей тонкой рукой, что берёзка веточкой. В золотисто-карих глазах её той же древней рекой сквозила совсем взрослая грусть, искрясь веселинками на перекатах, кружась омутами женской печали. Чтобы мы не забывали её, так старающуюся быть хорошей и нужной людям. Чтобы знали и помнили. Не сошлись
Не сошлись
характером
Рушится семья близкого друга. Есть ребёнок, свой дом, работа, здоровье, достаток. Жена красавица, муж работящий и домовитый, но вместе – невмоготу. Характером не сошлись. Кроха-сын, нерасторжимо единящий в себе их кровь, последней ниточкой соединяет двух людей, ставших чужими друг другу. По вечерам, после рабочего дня, – крик и хлопанье дверями. И ещё не сказанное, но про себя решённое почти наверняка: «Разводиться!»
Болит вот у человека рука – долго и нудно. И будет терпеть её, и лялькать, и лечить всеми мыслимыми и немыслимыми способами. И на ампутацию согласится лишь тогда, когда уж будет прямая угроза жизни. Даже с сохлой, скрюченной рукой согласится жить, чем без неё. Почему же половина современных браков избирает ампутацию – да на живую? Пожили, не сошлись характером, разбежались. Баба с ребёнком, бросивший мужик – кто, как не инвалиды? И среди кого они будут искать себе новую половинку? Принцы и принцессы их годков вышли, одна шваль осталась. Вот и будут они урывать мужатых да женатых, да рушить чужие семьи. И пойдёт их личная боль и злоба гулять по свету, калеча и коверкая другие судьбы.
Рассыпается карточным домиком молодая семья, имеющая вроде всё внешнее, но не обладающая лишь одним – любовью. Не той воздушно-порхающей влюблённостью, что переменчивее весеннего ветерка, а любовью, которая «крепка как смерть», которая «не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражает, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, всё покрывает, всему верит, всё переносит».
О чём же я? Разве есть у меня такая любовь? Разве могу осуждать? Значит, и во мне, как и во всех окружающих нас, есть взаимная вина за случившееся. Мы научаемся друг у друга равнодушию, себялюбию, неуступчивости. Упрямые в своей правоте и упорные в стягивании на себя общего одеяла. Мы живём будто в старой вселенской коммуналке, со скандалами и дрязгами у кухонной плиты, со сквозняками и крысами, шастая по чужим постелям и карманам, толкаясь в очередях за счастьем.
Где найти доводы, способные убедить не делать последнего шага? Стоят два человека спиной друг к другу, сжав ладони в кулаки. И недоумённо смотрит на них сынишка очами Божьими, запрокидывая своё личико и пытаясь обнять и смирить их, самых любимых и дорогих ему, готовых шагнуть в отверстую пропасть.
За бортом
современности
На городской свалке возле моего дома каждый находит своё. Опухший от перепоя и побоев бездомный перебирает пакеты в поисках объедков и тёплых вещей. До хрипоты заходится в кашле, закидывая на плечо грязный мешок и отправляясь до следующего «острова сокровищ». Из ближайших пятиэтажек наведываются таджики, забирая выброшенную мебель. Перед вывозом мусора на убитых «Жигулях» появляется армянин с сыном: собирают металлолом. Дед-пенсионер волочёт рамы для теплицы и фанеру для дачи. Старая бабушка всё ахает и не может привыкнуть к такому, разбирая фасонистые платья: «Вот все плохо живут, а выбрасывают-то, выбрасывают-то! Да мы после войны о таких вещах мечтали только, а сейчас на помойку, ведь новые!» Для своей собачки подбирает куски хлеба, встречаются и целые буханки, видно перележавшие в холодильнике. Тяжело вздыхая, бредёт она до своей квартиры, опираясь на самодельный батожок, в думах о болезнях и одиночестве да маленькой пенсии.
Выбрасывают и правда многое: двери и рамы после ремонта квартир, мягкую мебель, кухонные гарнитуры, посуду, одежду и обувь, детские коляски и вещи, старую бытовую технику. И ещё – книги. Ко всему я сдержан, проходя мимо, хотя моё деревенское нутро протестует, когда вижу стекло, доски, фанеру. Но книги…
В первый раз я был потрясён, когда увидел выброшенные Евангелие, молитвословы, недорогие иконочки. В кучу были свалены от руки переписанные последования богослужений, каноны и акафисты, помянники с именами людей, о которых кто-то молился. Набранная на печатной машинке Псалтирь. Всё это было из того советского времени, когда это переписывалось, передавалось, бережно хранилось. Было похоже на то, что умерла бабушка, а весь её нехитрый скарб просто выбросили.
В другой раз среди выброшенных книг оказался учебник русской истории 1911 г. под редакцией проф. С. Платонова. Вот ведь кто-то всё советское время хранил книгу, за которую могли посадить, а в наши дни «возрождения исторической памяти и национальной культуры» выбросили.
Выбрасывается техническая литература, медицинская, литературные журналы 90-х годов, школьные учебники. А как же не выбросить: квартиру сделали под евроремонт, мебель новую купили, а тут эта макулатура портит «дизайн» и лишнее место занимает. Кому это читать? Да и до чтения ли в наше время?
В помойной жиже разбросано собрание сочинений Гоголя. Почему-то именно классики очень много оказывается на свалке. Тех советских изданий, за которыми стояли в очередях и доставали по блату. Часто тома новенько похрустывают, когда открываешь их: десятка три лет простояли за стеклом в «стенках» и так ни разу не были открыты для чтения, вплоть до выброса. Вот Чехов Антон Палыч интеллигентно и скорбно взирает сквозь своё неизменное пенсне с обложки книги рассказов, втоптанной в нечистоты. По распахнутому развороту сборника стихов Есенина жирный и грязный отпечаток кроссовка, словно по душе и совести народной…
Подбираю из груды валяющихся книг репринт-издание дореволюционных «Правил светской жизни и этикета». Открываю наугад. «Вежливость есть плод хорошего воспитания и привычки обращаться с людьми благовоспитанными»; «Уметь слушать столь же необходимо, как и уметь говорить… Ничто не может быть более невежливым, как прерывать того, кто говорит»; «От большей части рюмок отказывайтесь и пейте лишь столько, чтобы постоянным отказом не обидеть хозяина»; «Надевать одновременно красное с зелёным или розовое с жёлтым значит нарушать все принципы вкуса»; «Гораздо лучше и приличнее вовсе не носить никаких драгоценностей, чем нацеплять на себя дешёвые подделки»; «Уважающая себя женщина никогда не должна придерживаться моды, которая шокирует скромность и стыдливость»; «Опрятная и приличная наружность почти всегда указывает на порядочность человека»; «Мы должны искренно, до самоотвержения любить нашу семью»; «Исправляйте недостатки вашего характера, они могут сделаться несчастием для всех окружающих вас»; «Избегайте всяких излишеств: они позорят человека и расстраивают здоровье»; «Любите искренно ваше отечество. Храбрость, так же как и любовь к отечеству, одна из величайших добродетелей гражданина. Любить отечество – это любить своих сограждан, это сочувствовать их горестям, это заботиться о народном благополучии».
Да уж, куда как не на помойку подобную книжку. Мракобесие да ересь!
А впрочем, не будем о грустном. Мы ведь возрождаемся, растёт национальное самосознание, вступаем в ВТО, строим «Москва-Сити», развиваем нанотехнологии. В ногу с современностью, товарищи-господа, не отставайте, бодрее и в ногу, в светлое нанобудущее!
Слушая
тишину
Компания семиклассников идёт по заснеженной аллее. Мальчишки толкают девочек в снег, те визжат, бросаются в ответ снежками. Всё это под весёлую заборную матерщину, в которой вроде и не слышно злобы.
– Машка, ах ты, шмара! – смеясь, кричит мальчишка Машке. Она, миловидная, прилично одетая, отвечает «непереводимой игрой слов». Мальчик добавляет ещё тот набор похабнейших выражений и эпитетов, который по отношению к девушке считается самым оскорбительным. Но никто не оскорбляется, ребята весело продолжают играть в снежки.
Встречь устало топает бабка с тяжёлой кошёлкой. Но и её не замечают, да и она не обращает внимания на матерящуюся ребятню. Я вдруг понимаю, что это не детское «дурак – сам дурак», а обыденный привычный стиль общения. Они так разговаривают и, кажется, весьма удивляются, когда им делают замечания. А что, собственно, такого? Так ведь все говорят. И в школе, и дома, и на улице. Ну, Марья Ивановна, конечно, в школе не выражается, но, рассказывают, дома всё же позволяет себе в сердцах.
Дети весёлой гурьбой скрываются за углом, тихнут шаги, мягкой воздушной волной накатывает тишина. Вот слышно стало, как тенькает синица и падает сухая веточка. Такая тишь, чистая, прозрачная, невесомая! Закрыв глаза, стою пару минут и слушаю благоуханное безмолвие предвесеннего парка. Пахнет тополиными почками и талым снегом. Может, я стареть начинаю: «А вот в наше время!»… Намолчать бы вот так мудрости и тишины впрок – червлёным старинным золотом, напиться ими вволю из пригоршней осенней задумчивой водой.
Курагино,
Красноярский край
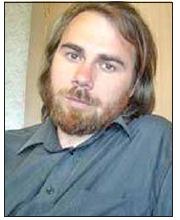
Сны
о детстве
Потянет душу во дни вешнеталицы перелётным косяком на север, к родному домовью…
Вспомнится вдруг, как мы мальчишками, забравшись на обсохлый пригорок, искали уже наросшую заячью капусту, на вкус кисловатую и колючую. Складником (без которого ни один деревенский мальчишка себя не мыслил) выкапывали хлипкие, с тонким стебельком хлебенки, напоминавшие сладившую картошку из погреба.
А солнышко полдневное и ветерок – тёплые да ласковые, что ладони мамы. И землёй так пахнет – не сказать мне, слов таких не найти.
Тогда мог, забыв обо всём, долго-долго смотреть, как меж травинок трудолюбивый и мудрый муравей старается унести свою ношу. Вот ведь, не для себя, а к собратьям тянет, хлопотливо суетясь. Зачем несёт, кто повелел и как дорогу находит? Всё удивляло тогда, до всего было дело. Вот вымыло в колее с золотым блеском камушек – пирит. Что за камень, может, золото? Забот на день.
Какая радость была в этих весенних днях: шумливые ручейки, резво несущиеся в лога, парчой сияющий на солнце снег, уже осевший, по утрам лежащий твёрдым настом. На укатанной санными полозьями дороге вытаивают конские катыши, очёски сена и соломенная полова. Потемневший лес за огородами зябнет в сырости. Вот-вот скворцы прилетят, начнутся птичьи перебранки с воробьями по квартирному вопросу.
Есть тайность и странность в человеческой памяти: детство навсегда прошло, но закрываю глаза – и вот оно – рукой дотянуться можно и шагнуть из этих взрослых тяжёлых лет в ясносолнечный незаходимый день, нескончаемо длящийся под высоким куполом неба. Иногда проснусь осеред ночи, в самый глубокий час её – и с закрытыми глазами начинаю слушать настоявшуюся будто индийским чаем тишину. Как разливистым водопольем найдёт далёкое прошлое, и заторопит, и понесёт в свои невесомые дали. И так вдруг покажется, что я ещё мальчишка, лежу на своей детской кровати в родном доме, а всё, что потом, мне просто приснилось – и институт, и армия, и скитания, и утраты, и города, и разлуки. Надо же – такое снится! Вздохнуть бы – и забыть этот сон, зная, что утром разбудит мама прикосновением ласковой ладони – как того вешнего солнышка. Знать, что мамы не умирают, ведь не могут умереть они – ясноглазые, самые добрые и нежные, похожие на ангелов.
Утром надо в школу, а уроки по математике с вечера не сделал. Может, всё-таки пронесёт. После уроков будем с ребятами строить запруду на талом ручье. Но это всё завтра… Натянув на себя одеяло, вновь засыпаю, уплывая восьмилетним капитаном в лазорево-дымчатый горизонт детства.
Чтобы
помнили
Дочка начинает ходить. И боязно ей, и хочется пойти без опоры. Убирая руку от дивана, приседает от неожиданности, вновь встаёт, что-то возмущённо лопочет. И вдруг с улыбкой поднимает личико. «Ведь правда, папа, я хорошая?!» Ах, дочка…
Вспомнилась мне поездка с одним иеромонахом, служащим при храме детского дома, в приют женского монастыря. Приехали поздравить с именинами воспитанницу детдома, переведённую сюда. У монастырских ворот нас уже ждала девочка лет восьми, Аня, тонкая да звонкая, лёгкая да ясная, будто ветерок летний, девочка с лицом ангела.
Были поздравления, подарки и чаепитие. Аня вся светилась от радости. Сёстры-воспитательницы нахваливали: уж до чего прилежная и трудолюбивая, добрая да разумная! В приюте девочке так поглянулось после детдомовской казёнщины, что расцвела она отзывчивой душой и всяким умением. Аня показывала и рисунки свои, и первую вышивку, и обширное монастырское хозяйство со всей его живностью. И всё же видно было, что в ней, как во всяком ребёнке, душа просилась в семейный уют, под родительский кров, как просится в дом выброшенный на холод котёнок, слабыми коготками царапаясь в дверь. «Ведь правда, я – хорошая?! Ведь правда?!»
Ехали обратно сквозь багряно-янтарный лес. Среди разлившейся прозрачной тишины стояли рощицы тонкоствольных берёзок под приглядом осанистых елей, застывших в вековечных думах. С их разлапистых веток свисал зеленовато-пепельный мох, словно старческая проседь времени. Казалось, мчалась ещё этим лесом конная дружина Евпатия Коловрата, позвякивая стременами и посверкивая кольчугами, всё пытаясь настигнуть ворога, поганящего Русь. Неслись они, древние и седобородые витязи, и не могли настигнуть, заставая на пути лишь пепелища и разор. Осеннее шафрановое солнце катилось над нами по овершьям деревьев. Старинной исщербленной сталью взблескивали излучины тихих старорусских рек с певучими былинными именами. Изредка выбегали на обочины нищие, точно разграбленные деревеньки и юродливо щурились подслеповатыми окнами. Будто выпрашивая на опохмелку, пьяненько куражась и приплясывая, они всё выпячивали голые рёбра скосившихся дощатых заборов.
И грызли меня дорогой вопросы: «Где сейчас родители девочки, оставившие её в детдоме? Как живётся-можется им? Как строят они своё счастье? И как спится им по ночам, не ведавшим терзаний маленького детского сердца, всё пытающегося найти вину в себе за то, что отреклись от него родители».
Стояла девочка у ворот и махала нам вслед своей тонкой рукой, что берёзка веточкой. В золотисто-карих глазах её той же древней рекой сквозила совсем взрослая грусть, искрясь веселинками на перекатах, кружась омутами женской печали. Чтобы мы не забывали её, так старающуюся быть хорошей и нужной людям. Чтобы знали и помнили.
 Не сошлись
Не сошлисьхарактером
Рушится семья близкого друга. Есть ребёнок, свой дом, работа, здоровье, достаток. Жена красавица, муж работящий и домовитый, но вместе – невмоготу. Характером не сошлись. Кроха-сын, нерасторжимо единящий в себе их кровь, последней ниточкой соединяет двух людей, ставших чужими друг другу. По вечерам, после рабочего дня, – крик и хлопанье дверями. И ещё не сказанное, но про себя решённое почти наверняка: «Разводиться!»
Болит вот у человека рука – долго и нудно. И будет терпеть её, и лялькать, и лечить всеми мыслимыми и немыслимыми способами. И на ампутацию согласится лишь тогда, когда уж будет прямая угроза жизни. Даже с сохлой, скрюченной рукой согласится жить, чем без неё. Почему же половина современных браков избирает ампутацию – да на живую? Пожили, не сошлись характером, разбежались. Баба с ребёнком, бросивший мужик – кто, как не инвалиды? И среди кого они будут искать себе новую половинку? Принцы и принцессы их годков вышли, одна шваль осталась. Вот и будут они урывать мужатых да женатых, да рушить чужие семьи. И пойдёт их личная боль и злоба гулять по свету, калеча и коверкая другие судьбы.
Рассыпается карточным домиком молодая семья, имеющая вроде всё внешнее, но не обладающая лишь одним – любовью. Не той воздушно-порхающей влюблённостью, что переменчивее весеннего ветерка, а любовью, которая «крепка как смерть», которая «не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражает, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, всё покрывает, всему верит, всё переносит».
О чём же я? Разве есть у меня такая любовь? Разве могу осуждать? Значит, и во мне, как и во всех окружающих нас, есть взаимная вина за случившееся. Мы научаемся друг у друга равнодушию, себялюбию, неуступчивости. Упрямые в своей правоте и упорные в стягивании на себя общего одеяла. Мы живём будто в старой вселенской коммуналке, со скандалами и дрязгами у кухонной плиты, со сквозняками и крысами, шастая по чужим постелям и карманам, толкаясь в очередях за счастьем.
Где найти доводы, способные убедить не делать последнего шага? Стоят два человека спиной друг к другу, сжав ладони в кулаки. И недоумённо смотрит на них сынишка очами Божьими, запрокидывая своё личико и пытаясь обнять и смирить их, самых любимых и дорогих ему, готовых шагнуть в отверстую пропасть.
За бортом
современности
На городской свалке возле моего дома каждый находит своё. Опухший от перепоя и побоев бездомный перебирает пакеты в поисках объедков и тёплых вещей. До хрипоты заходится в кашле, закидывая на плечо грязный мешок и отправляясь до следующего «острова сокровищ». Из ближайших пятиэтажек наведываются таджики, забирая выброшенную мебель. Перед вывозом мусора на убитых «Жигулях» появляется армянин с сыном: собирают металлолом. Дед-пенсионер волочёт рамы для теплицы и фанеру для дачи. Старая бабушка всё ахает и не может привыкнуть к такому, разбирая фасонистые платья: «Вот все плохо живут, а выбрасывают-то, выбрасывают-то! Да мы после войны о таких вещах мечтали только, а сейчас на помойку, ведь новые!» Для своей собачки подбирает куски хлеба, встречаются и целые буханки, видно перележавшие в холодильнике. Тяжело вздыхая, бредёт она до своей квартиры, опираясь на самодельный батожок, в думах о болезнях и одиночестве да маленькой пенсии.
Выбрасывают и правда многое: двери и рамы после ремонта квартир, мягкую мебель, кухонные гарнитуры, посуду, одежду и обувь, детские коляски и вещи, старую бытовую технику. И ещё – книги. Ко всему я сдержан, проходя мимо, хотя моё деревенское нутро протестует, когда вижу стекло, доски, фанеру. Но книги…
В первый раз я был потрясён, когда увидел выброшенные Евангелие, молитвословы, недорогие иконочки. В кучу были свалены от руки переписанные последования богослужений, каноны и акафисты, помянники с именами людей, о которых кто-то молился. Набранная на печатной машинке Псалтирь. Всё это было из того советского времени, когда это переписывалось, передавалось, бережно хранилось. Было похоже на то, что умерла бабушка, а весь её нехитрый скарб просто выбросили.
В другой раз среди выброшенных книг оказался учебник русской истории 1911 г. под редакцией проф. С. Платонова. Вот ведь кто-то всё советское время хранил книгу, за которую могли посадить, а в наши дни «возрождения исторической памяти и национальной культуры» выбросили.
Выбрасывается техническая литература, медицинская, литературные журналы 90-х годов, школьные учебники. А как же не выбросить: квартиру сделали под евроремонт, мебель новую купили, а тут эта макулатура портит «дизайн» и лишнее место занимает. Кому это читать? Да и до чтения ли в наше время?
В помойной жиже разбросано собрание сочинений Гоголя. Почему-то именно классики очень много оказывается на свалке. Тех советских изданий, за которыми стояли в очередях и доставали по блату. Часто тома новенько похрустывают, когда открываешь их: десятка три лет простояли за стеклом в «стенках» и так ни разу не были открыты для чтения, вплоть до выброса. Вот Чехов Антон Палыч интеллигентно и скорбно взирает сквозь своё неизменное пенсне с обложки книги рассказов, втоптанной в нечистоты. По распахнутому развороту сборника стихов Есенина жирный и грязный отпечаток кроссовка, словно по душе и совести народной…
Подбираю из груды валяющихся книг репринт-издание дореволюционных «Правил светской жизни и этикета». Открываю наугад. «Вежливость есть плод хорошего воспитания и привычки обращаться с людьми благовоспитанными»; «Уметь слушать столь же необходимо, как и уметь говорить… Ничто не может быть более невежливым, как прерывать того, кто говорит»; «От большей части рюмок отказывайтесь и пейте лишь столько, чтобы постоянным отказом не обидеть хозяина»; «Надевать одновременно красное с зелёным или розовое с жёлтым значит нарушать все принципы вкуса»; «Гораздо лучше и приличнее вовсе не носить никаких драгоценностей, чем нацеплять на себя дешёвые подделки»; «Уважающая себя женщина никогда не должна придерживаться моды, которая шокирует скромность и стыдливость»; «Опрятная и приличная наружность почти всегда указывает на порядочность человека»; «Мы должны искренно, до самоотвержения любить нашу семью»; «Исправляйте недостатки вашего характера, они могут сделаться несчастием для всех окружающих вас»; «Избегайте всяких излишеств: они позорят человека и расстраивают здоровье»; «Любите искренно ваше отечество. Храбрость, так же как и любовь к отечеству, одна из величайших добродетелей гражданина. Любить отечество – это любить своих сограждан, это сочувствовать их горестям, это заботиться о народном благополучии».
Да уж, куда как не на помойку подобную книжку. Мракобесие да ересь!
А впрочем, не будем о грустном. Мы ведь возрождаемся, растёт национальное самосознание, вступаем в ВТО, строим «Москва-Сити», развиваем нанотехнологии. В ногу с современностью, товарищи-господа, не отставайте, бодрее и в ногу, в светлое нанобудущее!
Слушая
тишину
Компания семиклассников идёт по заснеженной аллее. Мальчишки толкают девочек в снег, те визжат, бросаются в ответ снежками. Всё это под весёлую заборную матерщину, в которой вроде и не слышно злобы.
– Машка, ах ты, шмара! – смеясь, кричит мальчишка Машке. Она, миловидная, прилично одетая, отвечает «непереводимой игрой слов». Мальчик добавляет ещё тот набор похабнейших выражений и эпитетов, который по отношению к девушке считается самым оскорбительным. Но никто не оскорбляется, ребята весело продолжают играть в снежки.
Встречь устало топает бабка с тяжёлой кошёлкой. Но и её не замечают, да и она не обращает внимания на матерящуюся ребятню. Я вдруг понимаю, что это не детское «дурак – сам дурак», а обыденный привычный стиль общения. Они так разговаривают и, кажется, весьма удивляются, когда им делают замечания. А что, собственно, такого? Так ведь все говорят. И в школе, и дома, и на улице. Ну, Марья Ивановна, конечно, в школе не выражается, но, рассказывают, дома всё же позволяет себе в сердцах.
Дети весёлой гурьбой скрываются за углом, тихнут шаги, мягкой воздушной волной накатывает тишина. Вот слышно стало, как тенькает синица и падает сухая веточка. Такая тишь, чистая, прозрачная, невесомая! Закрыв глаза, стою пару минут и слушаю благоуханное безмолвие предвесеннего парка. Пахнет тополиными почками и талым снегом. Может, я стареть начинаю: «А вот в наше время!»… Намолчать бы вот так мудрости и тишины впрок – червлёным старинным золотом, напиться ими вволю из пригоршней осенней задумчивой водой.
Курагино,
Красноярский край
Комментариев нет:
Отправить комментарий