О Расколе думается. Все это продолжается в народе, все
эти выборы между разными пониманиями веры. "единый аз" раскольников все
же мало похож на рационалистичность иудейских книжников, как это
пытаются понимать некоторые исследователи. Все же в расколе была стихия
не "православного иудаизма", а "магического православия".
Вожди-протопопы - выходцы из провинции, наиболее тесно связанные с
народным пониманием веры. В магии важна точность техники, ритуала, из-за
неправильно произнесенного слова заклинание не сработает. Есть в этой
догадке что-то. Еще вот: беспоповство как то верно замечает Зеньковский
не просто раскол, оно в силу логики раскола вынуждено было идти в
еретическое переосмысливание церковного учения. Но вот вспоминаются мне
курагинские старообрядцы, работящие мужики, какие-то крепкие, кряжистые в
своей цельности, с застенчивой улыбкой - и все эти теоретические
выкладки меркнут. Их тайгу выводят под корень, река запоганивают - и
некуда им идти с русоволосыми босоногими детьми. Их правда в этом -
умирать в резервации могиканами средневековой Руси
воскресенье, 23 декабря 2012 г.
пятница, 14 декабря 2012 г.
Вместо предисловия
Вместо предисловия…
Удивительное дело: говоришь со случайным
человеком в совсем уж незнакомом краю, куда забросило волей обстоятельств, и
вдруг выясняется, что он - твой земляк. И таким теплом вдруг повеет, будто
встретил родную душу. Он тоже ходил твоими дорогами, видел те же деревеньки,
реки, леса и горы, жил совсем рядом с тобой. И заговоришься, и понесет душу с
душой словно в одной лодочке к родному берегу. Одним словом, земляк.
Моя
деревенька Тагашет, маленькая, невзрачная, бедная – моя родина. В ней я вырос,
а после начались странствия: учеба на истфаке в ХГУ, служба в армии,
преподавание в школе, учеба в Московской духовной семинарии. Я стал
священником, вопреки всему, я странствовал – и все же возвращался к родной
земле. И вновь начинались странствия. Иногда найдут тяжелые мысли: пустеет
малая родина как после холеры, и что останется после, когда даже могилки
остаются без пригляда и бесследно теряются в веселом буйстве малинника. Сколько
порушено деревень и выселков. Но и поверить невозможно, что все вот так
бесследно расточится – и ничего не останется. И в размышлениях об этом я
пытаюсь что-то записать, рассказать то, что дорого нам сообща, как землякам,
породненным единой землей – и небом над ним, и солнышком, и ветром, веющим над
порогом отчего дома…
Светопредставление
Разнося треп о конце света, человек подразумевает невольно, что те, кому
он это говорит, умрут совсем скоро. Так не будет ли более честней так и
говорить: вы и ваши дети, родители, родные умрут совсем скоро. Попробуйте. И
убедитесь, каково это - трепаться о смерти
четверг, 13 декабря 2012 г.
В журнале "Нескучный сад" вышла статья про секту Виссариона и в конце ее пара предложений о моей скромной персоне. Последнее предложение про то, что мне звонили и угрожали, неправда. Вообще порядком устал от испорченных телефонов. Текст статьи по ссылке http://www.nsad.ru/articles/obshhina-vissariona-sumerki-v-gorode-solnca
Простые дела

Честно говоря, целенаправленно подобный эксперимент мне не доводилось ставить, а вышеизложенные мысли появились вот по какому случаю. В одну прекрасную пору летних каникул довелось мне в очередной раз побывать на своей малой родине - в деревне Тагашет, в которой я родился и вырос. Да не одному, а со своей супругой Наташей, с которой только повенчались, и поездка в Сибирь на свою историческую родину стала свадебным путешествием. Чувствовал я себя львом Бонифацием, после городского цирка оказавшегося на воле. Поход в горы, сбор грибов и ягод, рыбалка и покос, чтение поэзии по вечерам и виниловые пластинки, поездки по родственникам и друзьям, купание в тагашетском пруду и прогулки в окрестностях деревни - все это сделало отдых незабываемым.
На последней неделе каникул решили облагородить деревенский ключик, находившийся невдалеке за ней, под горою. Вода в нем всегда прозрачная, холодная да сладимая. Когда-то в незапамятные времена родники и ключики пользовались у народа особым почтением, многие из них были известны как чудотворные, над ними строились часовенки и срубы. Воду же использовали только для питья, для иных нужд брали в особых случаях. Позже часовенки снесли, и лишь в крещенскую ночь редкие жители наведывались за святой водицей.
Деревенский ключик, некогда известный на всю округу, уже давно затиневел и оброс травьем, топкие берега подмыло. Обычно деревенские жители о нем вспоминали, когда ломался глубоководный насос, и Тагашет оставался без воды. Вода из речки Тагашетки мутная из-за илистого русла, для питья не пригодна, поэтому ключик всегда выручал. Но после замены насоса о нем опять забывали. Чуть ниже от истока принимали грязевые ванны местные хрюшки, видимо решившиеся заняться моржеванием (иного объяснения их пребывания в ледяной грязи я найти не смог, списав все на суровый сибирский характер животинок).

Задача оказалась не из легких: как-то надо было выровнять и укрепить берега и сделать подход к воде по вязкой кромке. Никакого первоначального проекта не было, лишь по мере работы стало проясняться ее направление. Главным помощником и вдохновителем оказалась жена, искусствовед по образованию.
Помолившись да перекрестившись, приступили к работе. Первым делом удалили заросли густой травы по берегам, потом очистили русло от тины. Далее пришлось углубить его дно, чтобы поднять берег над уровнем воды. На это ушел первый день работы. Самой сложной задачей оказалось укрепление топких болотистых берегов, постепенно подмываемых и сползавших к воде. Наполненные влагой, они начинали проседать под ногами. Особенно трудно было укрепить место, из которого бил родник.
Для этого выступы береговых окромин были срезаны, верхний слой влажной земли снят и засыпан мелкой каменной крошкой, чтобы обеспечить дренаж в случае дождя, после которого берега обычно окончательно превращались в болотную жижу. В истоке решили поставить трехстенный сруб, чтобы вода, бьющая из-под земли, больше не подмывала над собой берег. Для сруба за неимением сосновых бревен пришлось использовать осиновые, в надежде, что в будущем удастся заменить его на более основательный и долговечный. Второй день был потрачен на заготовку тонких бревен в лесу.
Погода выдалась в эти дни удивительно солнечной и ясной. С полдневным разымчивым зноем мешались немолчный стрекот кузнечиков и духовитый запах задичавшей люцерны. Соцветия пижмы и зонтики пучки высились над синетой цветущего мышиного горошка, в котором юрко прятались изумрудные ящерицы. Невдалеке паслись лопоухие телята в листовнике у предлесья, лениво взбрыкивая от укусов слепцов. В неоглядной выси бездонно-лазурного неба медленно парил коршун.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

Ведь пора вспомнить, что мы не только население, проживающее на определенной территории, но мы прежде всего народ, и эта территория есть наша Родина, наше Отечество, завещанное нам предками. Из глубины веков звучат слова летописца XIII в.: "О светло светлая и украсно украшена земля Русьская! И многыми красотами удивлена еси: озеры многыми, удивлена еси реками и кладязьми месточестьными, горами крутыми, холми высокими, дубравами частыми, польми дивными, зверьми разноличьными, птицами бещислеными, городы великыми, селы дивными, винограды обителными, домы церковными и князьями грозными, бояры честными, вельможи многами - всего еси испольнена земля Руськая, о правоверная вера хрестияньская!".
Кто-то, быть может, назовет вышеизложенное идеализмом и похвальбой, но разве лучше сегодняшнее уныние, пессимизм и бесконечные разговоры о том, как все плохо? Не означает ли это, что разруха нашей жизни прежде всего не в повседневности, а в уме и сердце, не имеющем веры? Нам до сих пор кажется, что мы без государства сами ничего не может сделать на заброшенных и порушенных землях. Но пора понять, что не нужны мы своей власти как умный, здоровый и работящий народ, раз она позволяет его развращать и спаивать, отуплять и доводить до нищеты и убожества.
Напоследок хочу рассказать историю об одном юродивом, жившем в 19 веке. Звали его Филиппушкой, был он из простых крепостных крестьян. После смерти жены, оставив все, он ушел из своей деревни и стал странствовать по России. Не раз его били и арестовывали как бродягу, да что было взять с юродивого! За всякое поношение он благодарил и кланялся в ноги. Смеялись над ним, осуждали его за то, что без дела скитается по земле. И не ведал никто, что за внешностью сирого и убогого деревенского дурачка кроется великий молитвенник и праведник, молившийся о своих обидчиках и о всем народе.

Однажды он поселился в маленькой лесной сторожке и стал в ней подвизаться. Потом ископал в ней погребок и спустился в него для молитвы. Пуще прежнего стали потешаться над ним: экой дурак! Но прошли месяцы и потянулись к Филиппушке монахи из ближайшего монастыря. Вместе они ископали подземные кельи с храмом. В этот храм одна благочестивая девица пожертвовала икону, перед которой он стал еще более усердно молиться. Вскоре юродивый умер, а у иконы стали происходить чудеса исцелений. Были они настолько явными, что со всей России потянулись паломники. На поверхности построили большой собор, число братии достигло вскоре 300 человек. Так возник Черниговский скит, ставший в 19 веке центром московского старчества возле Троице-Сергиевой Лавры.
Более года мне довелось водить в нем экскурсии и видеть, как вера слабых и убогих делает сильными и прекрасными, как люди, начав с крохотных усилий, достигали великих результатов. Сотни паломников едут, чтобы увидеть это благодатное место. А все началось с молитвы простого необразованного юродивого, ставшего праведником и святым.
Этот пример научает тому, что даже самое малое и простое наше доброе дело, творимое во имя Бога и ближних, может иметь величайшие плоды. Поэтому не стоит бояться быть щедрым и милостивым, Господь за каждую потраченную на благо копейку воздает тысячей. Это ведь и есть подлинный патриотизм: с любовью и нежностью относиться к земле отцов, в которой упокоились их косточки. Не поганить ее, не быть равнодушным, а хранить в порядке и возделывать трудом своих рук. Простое дело кажется лишь малой, ничего не значащей каплей, но с нее может начаться река человеческого добра, смывающая все зло и грязь нашей жизни на свое пути.
Пьяная Русь
Пьяная Русь
Запомнилось из детства и накрепко врезалось в память: бежит обезумевшая от страха деревенская баба в ночной сорочке по спящей улице, а за ней муж. В руке у него увесистое полено, орет он пьяно и похабно ей вслед. Догнав, он собьет ее, истошно вопящую, и будет месить с грязью ногами, охаживая поленом, и таскать за волосы. Из остолбенения от увиденного меня выводит пинок отца под зад: дело наше стороннее да прохожее, в чужие семейные дрязги не мешайся.
Запомнилось из детства и накрепко врезалось в память: бежит обезумевшая от страха деревенская баба в ночной сорочке по спящей улице, а за ней муж. В руке у него увесистое полено, орет он пьяно и похабно ей вслед. Догнав, он собьет ее, истошно вопящую, и будет месить с грязью ногами, охаживая поленом, и таскать за волосы. Из остолбенения от увиденного меня выводит пинок отца под зад: дело наше стороннее да прохожее, в чужие семейные дрязги не мешайся.
Самыми лютыми были деревенские драки на
свадьбах и проводах в армию, когда подгулявшие мужики хватались на смерть.
Слетали с хряском двери с петель, расхлестывались оконные рамы, раздавался
дрязг бьющейся посуды, бабьи визги и причитания.
Оставшиеся без пригляда подростки тащили
со столов водку, которую распивали вкруговую за углом. После долгих уламываний
соглашались выпить те, кто делал это впервые. Парни становились распальчивей, девчонки
развязней и доступнее. И то великое сокровище, что хранить бы им, отдавалось
походя и случайно, в детско-пьяной беспомощности.
А какие смерти случались по пьянке! Был
в деревне Ванька Малина знатным комбайнером, ходил с веселым прищуром
косоватого глаза и папироской в зубах, в бессменных кирзовых сапогах. Да,
подгуляв ноябрьским вечерком, прикорнул на лавочке у дома. Шел мелкий
порошистый снежок, серебрясь в лимонном свете уличного фонаря, засыпая старое
замызганное пальтецо Ивана. Вязала дремота сладкой истомой, и утлым корабликом
погружалась душа в бездонное снежное море. И уже становилось оно неоглядным
полем, осиянным золотожарым августовским солнцем, с бегущими волнами ржаных
колосьев, ветром плещущих в
дымчато-лазоревый горизонт… А в доме маялась мать-старуха, поджидая
несчастного и непутевого сына, чувствуя недоброе. Знать бы ей, что он сейчас замерзает насмерть
у забора за бревенчатой стеной! Увидев же поутру окоченевшее тело сына, долго
ли могла она прожить с такой свалившейся ношей горя на земле?
Был у меня в Тагашете веселый знакомый
Андрюшка, занесло его в нашу глушь аж из-под Питера. Молодой парень, с руками,
ногами и головой. Но не работалось, и не ладилась жизнь. Жил он с матерью в
покосившейся избе, дотапливая зимой последние сараюшки. Уж на что удавалось
пить?! Но пил с деревенскими ребятами, не злой и веселый Андрюшка. Как-то
приволокли его, допившегося до бесчувствия, отсыпаться домой. Ночью начало
рвать, да так и захлебнулся, лежа на спине, собственной рвотой. Такая вот смерть.
И еще помнится материнский вой над
гробом брата, которого «задавило машиной насмерть», когда он, подвыпивший, шел
по улице соседней деревни.
В сельских школах редко в каком классе
нет сегодня детей-«видовиков» или по-другому «коррекционщиков», чьи родители
беспробудно пьют. Они узнаются по плохой измызганной одежке и задичалости,
болезненной хрупкости черт. Не вина детей, что их будущее пропито вчистую, что
исковерканная наследственность обернется болезнями и вырождением, что нищета и
грязь, жестокость и пороки въедливой копотью несчастья покроют всю их жизнь.
И за какую ниточку деревенской жизни не
потяни, все вытянешь беду и горе от выпивок да пьянок. Нет, не было и не будет
человека, которого бы они довели до добра. Лежат на деревенском кладбище отцы и
матери, братья и сестры, дети, чья жизнь захлебнулась в выпивке, оборвалась в
хмельном мороке или от руки тех, кто был пьян. Нет им пути назад.
Не писать бы об этом! Но уж слишком
велик груз этих страшных воспоминаний...
Много дорог исхожено, а все ж какой не
иди, каждая сворачивает в родную сторонку. Стоит моя деревенька Тагашет среди
снежных заметов, укрытая зимней дымчато-сизой тишиной. В морозную ночь огромное
многозвездное небо высится над домами. Тянутся вверх столбы печного дыма,
шафрановый свет сквозь заиндевелые стекла оконных рам косыми квадратами ложится
на сугроб палисадника. Слышен лишь хрусткий скрип снега, да перелай деревенских
цепных собак.
В
такой тишине хорошо слышен дробный стук в окно того дома, где приторговывают
«технарем» или самогонкой. Покупают на «детские» или от стариковских пенсий, на
редкую скалымленную денежку, иногда на уворованное добро односельчан. Все идет
в эту зевластую ненасытимую пасть. В 90-х годах те сельские жители, которые
занялись этим промыслом, на общем фоне деревенской бедности и безденежья стали
обогащаться. Но вот сейчас, сколько ни вспоминаю, у каждого из них все
обернулось прахом и бедой. Никто и никогда еще не построил счастья и не обрел
радости на нечестных и нечистых деньгах.
После нехитрой сделки идет прытким шагом
«гонец», трепетно держа бутылку в кармане, по спящей улице домой с подмываемым
от скоролетной радости сердцем. В доме расчинается пьяное веселье: крепчает
бестолково-крикливый разговор захожих собутыльников, равных и единых в эти
минуты забытья вседневной яви. Табачный сладковато-едкий дым плавает по давно не
беленой кухне. Из хриплого динамика полуразбитого магнитофона звучит
незатейливая попсовая песенка, перекрываемая забористой матершининой. Вся эта ненастоящая, фальшивая радость
кончится ссорой и дракой, тошнотой и тяжким похмельем. С утра в выстывшем доме
пустой бутылкой по заблеванному, годами не мытому полу покатятся тоска и
отчаянье в запоганенной душе. Как тут не пить дальше?
Это уже край пропасти, на котором
куражится человек, растерявший все смыслы и надежды жизни. Человеку свойственно от природы стремиться ко
благу, радости и счастью. Но как же несчастен сегодня русский народ! В тысячах
и тысячах деревенских домов и городских квартир до исступления и помешательства
буйствует пьянство. Не нашлось настоящего счастья и радости ни в снеди, ни в
питии, ни в иных утехах плоти. Без цели и надежды, в осознании грядущей смерти,
жизнь кажется бессмысленной. Последним прибежищем и рубежом становится морок
хмеля. Не есть ли в этом величайшее несчастье: бездумно сорить жизнью, не постигнув
ни смысла ее, ни высоты, ни ценности. Имея сокровище, выбросить его и всю жизнь
промыкать в нищете и злосчастии. И никакие разговоры о «вреде алкоголя» не
удержат человека, дошедшего до предела сожженной совести, раз не удерживают его
слезы матери и родных детей.
Мы все пьяны так или иначе, тем или
иным. Кто водкой и наркотой, кто властью, деньгами и эросом. Пьяны гордыней и
тщеславием, завистью и озлобленностью. И как истинно пьяные, болезненно этим
упиваемся и не можем напиться. И чем
дольше и больше, тем безвыходнее и ожесточеннее запои. И пьянство, будь оно
физическое или душевное, всегда есть выражение неверия. Когда не верит человек
в то, что есть более высокий смысл в его жизни, чем одно потребление и
удовольствие, что он может стать лучше и быть в иной, более совершенной
реальности. Русь пьяна этим неверием. Пьяна и несчастна. Неверие всегда
оборачивается стремлением к небытию, к самоубийству себя как личности. Оно
неизбежно ведет к страданию, которое становится черным пламенем, палящим как
самого человека, так и всех, кто входит в круг его жизни.
Дни войны, а не мира выпали нам. Время нового
Сталинграда, где нам надо воевать с собою ради человеческого достоинства. Героями
этой войны становятся лишь те, кто не сдал рубежей среди тягот и искушений
жизни, не отчаялся и не запил, кто не мирился со злом и не дружил с врагами.
На пути к Голгофе
Одной
из самых удивительных особенностей Евангельской истории является ее
всевременность: верующие любой эпохи включены в нее своей жизнью и своей
смертью, проходя все той же пыльной дорогой, ведущей из Иерусалима на
Лобное место. Кто плача о Сыне, кто подставляя плечо под Его Крест, кто
следуя в толпе зевак и насмешников, кто погоняя ударами плети.
Главной мечтой нашего времени стала мечта о счастье – конкретном, земном, осязаемом. Как-то естественно хочется здоровья, благополучия и устроенности, и уж совсем не хочется скорбей. Хочется выстроить жизнь так, чтобы и быть верующим, и жить, особо ничем себя не стесняя, пользуясь всеми благами мира, его уютом и удобством: на мягких подушках въехать в райскую вечность. Не веря словам Господа о верблюде, мы все пытаемся протащить его сквозь игольное ухо. Не веря Его словам о двух господах, опять же с завидным упорством пытаемся им служить. Результат такой попытки всегда один и тот же: нерадение о Боге, лицемерие и формальное служение в Его доме, и прыткое да радостное прислуживание в уютном домике мамоны. В итоге начинает забываться главный смысл нашего бытия в Церкви как учеников Христа – спасения через причастие Божественного естества.
Господь не обещает земного счастья своим ученикам, зная человеческую страсть к тленным вещам и благам. Св. Иоанн Кассиан так говорит об этом: «Счастье более вредит человеку, чем несчастье. Ибо последнее иногда против воли сдерживает и смиряет, и, приводя в спасительное сокрушение, или менее грешить располагает, или понуждает совсем исправиться; а первое, надмевая душу пагубными, хотя приятными, лестями, в страшном разорении повергает в прах тех, кои по причине успехов счастья считают себя безопасными».
Взрослый человек подобно ребенку играет безделушками и проигрывает блаженство вечной жизни, как об этом пишет блаж. Августин: «Все это одинаково в начале жизни – воспитатели, учителя, орехи, мячики, воробьи; когда же человек становится взрослым – префекты, цари, золото, поместья, рабы – в сущности, все это одно и то же, только линейку сменяют тяжелые наказания». Поэтому самым светлым и победоносным знаменем христианства становится мученичество, как предельное выражение ответной любви человека к Богу, любви, презирающей все земное ради небесного.
Когда читаешь русские летописи, повествующие о татаро-монгольском нашествии, всегда поражаешься смирению летописцев: в том, что Русь разорена и опоганена, виноваты вовсе не татары, а русские. Вот как об этом пишет св. Димитрий Ростовский: «Когда ты видишь смуты и войны или иные бедствия, не думай, чтобы всё сие было простым, обычным явлением сего временного мира, или произошло от какого-нибудь случая, но знай, что бедствия попускаются волею всемогущего Бога за наши грехи, дабы согрешающие приходили в чувство и исправлялись. В начале Господь вразумляет нас грешных малыми наказаниями; если же мы не исправляемся, тогда Он посылает на нас большие наказания, как некогда и на израильтян… Наказания малые, которые Господь попускает в начале, суть следующие: мятеж, голод, внезапная смерть, междоусобные войны и тому подобное. Если же такими наказаниями грешники не вразумляются, тогда Господь посылает на них жестокое и тяжкое нашествие иноплеменников, чтобы хотя в сем великом бедствии люди могли придти в чувство и обратиться от путей своих лукавых».
События последних недель, ознаменованных антиклерикальной кампанией, заставляют еще раз более внимательно обратиться к опыту Церкви. Это повод задуматься, насколько достойно мы носим имя христиан и нет ли нашей вины в происходящем. И чего желает от нас Господь, попуская подобное? Взяв свой крест и следуя за Христом, можно прийти лишь на Голгофу. На страдания и позорную смерть, предательство и глумление. Через это проходят самые верные и самые любимые Богом. Апостол Павел пишет о своем служении: «От иудеев пять раз дано мне было по сорок ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в пучине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе» (2 Кор. 11: 24-27).
И вот мы на этом пути вместе со Христом во дни Страстной седмицы. Страшном пути. В конце его стоит Распятие. И нам говорит Господь: «Дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие! тогда начнут говорить горам: падите на нас! и холмам: покройте нас! Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» (Лк.23: 27-31).
Главной мечтой нашего времени стала мечта о счастье – конкретном, земном, осязаемом. Как-то естественно хочется здоровья, благополучия и устроенности, и уж совсем не хочется скорбей. Хочется выстроить жизнь так, чтобы и быть верующим, и жить, особо ничем себя не стесняя, пользуясь всеми благами мира, его уютом и удобством: на мягких подушках въехать в райскую вечность. Не веря словам Господа о верблюде, мы все пытаемся протащить его сквозь игольное ухо. Не веря Его словам о двух господах, опять же с завидным упорством пытаемся им служить. Результат такой попытки всегда один и тот же: нерадение о Боге, лицемерие и формальное служение в Его доме, и прыткое да радостное прислуживание в уютном домике мамоны. В итоге начинает забываться главный смысл нашего бытия в Церкви как учеников Христа – спасения через причастие Божественного естества.
Господь не обещает земного счастья своим ученикам, зная человеческую страсть к тленным вещам и благам. Св. Иоанн Кассиан так говорит об этом: «Счастье более вредит человеку, чем несчастье. Ибо последнее иногда против воли сдерживает и смиряет, и, приводя в спасительное сокрушение, или менее грешить располагает, или понуждает совсем исправиться; а первое, надмевая душу пагубными, хотя приятными, лестями, в страшном разорении повергает в прах тех, кои по причине успехов счастья считают себя безопасными».
Взрослый человек подобно ребенку играет безделушками и проигрывает блаженство вечной жизни, как об этом пишет блаж. Августин: «Все это одинаково в начале жизни – воспитатели, учителя, орехи, мячики, воробьи; когда же человек становится взрослым – префекты, цари, золото, поместья, рабы – в сущности, все это одно и то же, только линейку сменяют тяжелые наказания». Поэтому самым светлым и победоносным знаменем христианства становится мученичество, как предельное выражение ответной любви человека к Богу, любви, презирающей все земное ради небесного.
Когда читаешь русские летописи, повествующие о татаро-монгольском нашествии, всегда поражаешься смирению летописцев: в том, что Русь разорена и опоганена, виноваты вовсе не татары, а русские. Вот как об этом пишет св. Димитрий Ростовский: «Когда ты видишь смуты и войны или иные бедствия, не думай, чтобы всё сие было простым, обычным явлением сего временного мира, или произошло от какого-нибудь случая, но знай, что бедствия попускаются волею всемогущего Бога за наши грехи, дабы согрешающие приходили в чувство и исправлялись. В начале Господь вразумляет нас грешных малыми наказаниями; если же мы не исправляемся, тогда Он посылает на нас большие наказания, как некогда и на израильтян… Наказания малые, которые Господь попускает в начале, суть следующие: мятеж, голод, внезапная смерть, междоусобные войны и тому подобное. Если же такими наказаниями грешники не вразумляются, тогда Господь посылает на них жестокое и тяжкое нашествие иноплеменников, чтобы хотя в сем великом бедствии люди могли придти в чувство и обратиться от путей своих лукавых».
События последних недель, ознаменованных антиклерикальной кампанией, заставляют еще раз более внимательно обратиться к опыту Церкви. Это повод задуматься, насколько достойно мы носим имя христиан и нет ли нашей вины в происходящем. И чего желает от нас Господь, попуская подобное? Взяв свой крест и следуя за Христом, можно прийти лишь на Голгофу. На страдания и позорную смерть, предательство и глумление. Через это проходят самые верные и самые любимые Богом. Апостол Павел пишет о своем служении: «От иудеев пять раз дано мне было по сорок ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в пучине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе» (2 Кор. 11: 24-27).
И вот мы на этом пути вместе со Христом во дни Страстной седмицы. Страшном пути. В конце его стоит Распятие. И нам говорит Господь: «Дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие! тогда начнут говорить горам: падите на нас! и холмам: покройте нас! Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» (Лк.23: 27-31).
Во блаженном успении
Вот и выглянуло полдневное солнышко, брызнув россыпью серебрянозолотых лучей на взгорье сельского кладбища. Кончились похороны, земля тяжелой волной накрыла отошедшего в жизнь иную. В березовой роще вновь словно вода озерная легла светлая тишина.
Деревянные, железные, мраморные кресты терялись в буйном малиннике, идущем стенка на стенку в молодцеватой удали среди голубых оградок. У огородья паслись лопоухие с белесыми ресницами телята, погружая головы в сочную густую траву. Русское деревенское кладбище по-прежнему хранило свою неизъяснимую зачарованность и тихую березовую радость с прозрачными льдинками грусти. Сколько десятилетий здесь не совершалось панихид, не было слышно кадильного звона, будто стало оно вдовым приходом. Над столетними могилами русских пахарей не осталось даже крестов и холмиков, забылись их имена. Земной путь оказался следом от проплывшего корабля на морской глади: "Воистинну суета всяческая, житие же сень и соние: ибо всуе мятется всяк земнородный". Сколько могилок появилось умерших без покаяния и молитвы после них, а мирность была вся та же. Мирность православного храма усопших с выбеленными стенами из стволов берез, с синим сводом неба и солнечной златожарой маковкой над ним. И вечерний туман отныне стал им кадильным дымом, и запах душистого клевера ладаном, и звезды зажженными лампадками заупокой среди всенощных Господа для разрешившихся от тел и теперь ожидавших Воскресения и Суда. Смерть помирила всех, кто не мог ужиться прежде, нашла рядом место тем, кому было невмоготу на одной земле, съединила тех, кто без смертной ненависти не мог видеть друг друга. Некому больше помнить тех ссор и хранить червленым золотом гнев и обиды, ставшие мелочью, на которую уже ничего не купить. Отошли в землю все странники, скитальцы и искатели земного счастья. Встретились все, кто был разлучен. И всякая скорбь миновала, и натруженные руки обрели покой. На листве и в траве, на тропинках, крестах и оградках вечерней росой покоилась мудрость Экклесиаста: "И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: "нет мне удовольствия в них!". Доколе не померкли солнце и свет и луна и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы; и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось; и помрачатся смотрящие в окно; и запираться будут двери на улицу; когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха и замолкнут дщери пения; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы; – доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его".
Вот и выглянуло полдневное солнышко, брызнув россыпью серебрянозолотых лучей на взгорье сельского кладбища. Кончились похороны, земля тяжелой волной накрыла отошедшего в жизнь иную. В березовой роще вновь словно вода озерная легла светлая тишина.
Деревянные, железные, мраморные кресты терялись в буйном малиннике, идущем стенка на стенку в молодцеватой удали среди голубых оградок. У огородья паслись лопоухие с белесыми ресницами телята, погружая головы в сочную густую траву. Русское деревенское кладбище по-прежнему хранило свою неизъяснимую зачарованность и тихую березовую радость с прозрачными льдинками грусти. Сколько десятилетий здесь не совершалось панихид, не было слышно кадильного звона, будто стало оно вдовым приходом. Над столетними могилами русских пахарей не осталось даже крестов и холмиков, забылись их имена. Земной путь оказался следом от проплывшего корабля на морской глади: "Воистинну суета всяческая, житие же сень и соние: ибо всуе мятется всяк земнородный". Сколько могилок появилось умерших без покаяния и молитвы после них, а мирность была вся та же. Мирность православного храма усопших с выбеленными стенами из стволов берез, с синим сводом неба и солнечной златожарой маковкой над ним. И вечерний туман отныне стал им кадильным дымом, и запах душистого клевера ладаном, и звезды зажженными лампадками заупокой среди всенощных Господа для разрешившихся от тел и теперь ожидавших Воскресения и Суда. Смерть помирила всех, кто не мог ужиться прежде, нашла рядом место тем, кому было невмоготу на одной земле, съединила тех, кто без смертной ненависти не мог видеть друг друга. Некому больше помнить тех ссор и хранить червленым золотом гнев и обиды, ставшие мелочью, на которую уже ничего не купить. Отошли в землю все странники, скитальцы и искатели земного счастья. Встретились все, кто был разлучен. И всякая скорбь миновала, и натруженные руки обрели покой. На листве и в траве, на тропинках, крестах и оградках вечерней росой покоилась мудрость Экклесиаста: "И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: "нет мне удовольствия в них!". Доколе не померкли солнце и свет и луна и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы; и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось; и помрачатся смотрящие в окно; и запираться будут двери на улицу; когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха и замолкнут дщери пения; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы; – доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его".
Новомученики
Всегда,
когда слышишь пение тропаря новомученикам и исповедникам Российским,
что-то торжественно-ликующее нисходит на душу. Сквозь весь пепел нашей
обыденности и мелочных дрязг вдруг начинает светить огонь живой веры
людей, победивших зло и смерть силой Христовой любви. Вот они,
внимательно смотрят на нас с черно-белых фотографий, епископы и
священники, монахи, простые миряне, те, кто не отрекся от Христа, идя
кругами земного ада, среди ненависти и злобы, трусости и предательства…
Нам кажется, что если придут за нами, все будет так: стоим мы на площади перед императорским судилищем, с усмешкой взирая на врагов. «Отрекись от Христа!» - говорят нам. Мы мужественно не отрекаемся, нас казнят, все потрясены и восхищены нашей стойкостью. Подвиг мученичества рисуется как геройский поступок на войне в советских фильмах. Но то фильм и образ, а реальность куда более прозаична.
Никаких речей, ничтожный безграмотный следователь, побои и болезни, голод – и все это долгие-долгие тюремные обыденные годы, мертвяще-монотонные в своей бесконечности, в безвестности и презрении. С одной перспективой – ямой-могилой без креста, когда смерть превращается в «сдохни как собака». «Религиозников» чаще всего старались определить на самые черные и унизительные работы, зная, как это тяжело для человеческого достоинства: пусть епископ чистит нужники! Поместить человека высокой культуры в среду блатарей, утративших человеческое подобие…
Прошли те времена. В актах канонизации Церковь явила исторический суд и правду о гонениях и насилии над верой и совестью человека. 90-е годы были временем восстановления из руин тысяч храмов, вхождением в лоно Церкви миллионов вчерашних атеистов и неверов. Как к живой воде, потянулись души к Истине. И чем более крепла Церковь, тем более явно выступал один парадокс: новая жизнь Церкви возродилась на крови новомучеников, благодаря их мужеству. Были канонизованы многие сотни святых, но в реальном выражении приходской жизни память о новомучениках, их почитание оказались где-то на окраине церковного сознания. Об этом часто говорят священники. 4 февраля 2011 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви был принят документ «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших». Само появление подобного документа более чем симптоматично и показательно. Из своего личного опыта вхождения в жизнь Церкви могу сказать, что о новомучениках я узнал не из приходской жизни, живой памяти, а из книг. И для меня это было потрясением: вот тысячи и тысячи мучеников за Христа, почти наших современников, их огненная вера, творившая чудеса, и вот наша обыденная церковная жизнь, в которой чего только нет, кроме этого живого непосредственного переживания подвига Церкви. Контраст этот усиливается, если мы с вами обратимся к аналогичным эпохам гонений первых веков. В то время авторитет мучеников и исповедников был иногда настолько велик, что их мнение почиталось выше епископского. В житиях святых того времени ясно прослеживается пафос Церкви, говорившей о своих мучениках. Их стойкость была свидетельством истинности христианства. Стояние за правду до смерти было высшим нравственным примером, покорявшим языческий мир.
Одной из важнейших причин конечно является сама природа советского режима, создававшего при проведении репрессий атмосферу секретности, страха и изоляции. Человек бесследно исчезал, и подробности последующей судьбы становились известны часто лишь в наше время после открытия архивов. Если в первые века христиане внутри общины во время гонений жили общей памятью о мучениках, то в советском обществе любое общение на подобные темы являлось антисоветчиной и становилось известным власти благодаря налаженной системе слежки. Сменялись целые поколения верующих, не имевших достаточной возможности передать память и традиции, иногда просто вырываемых из жизни большими чистками или великой войной. Тягучие 70-е годы с их встраиванием Церкви в одну из ниш жизни советского общества со строго установленными границами тоже не способствовали укреплению памяти о новомучениках. Наконец, в 90-х годах в Церковь вошли миллионы людей, чей опыт прежней жизни строился вне Церкви и Ее подвига, для которых все же опыт новомучеников стал внешним, отдаленным десятилетиями, не соотносящимся с их опытом мирной жизни в советском обществе. И, конечно же, только возрождающаяся Церковь не имела возможности рассказать о подвиге во всей его многообразности: сколько архивов до сего дня ждут своих исследователей, многим новомученикам не составлены подробные жития, не написаны службы и иконы. А тут еще новые проблемы, вызовы современности…
И все же кроме объективных причин необходимо выделить и субъективные. Когда мы говорим, что чтим память конкретного святого, мы прежде всего подразумеваем молитву. И рассматриваемая тема, кажется, наиболее ясно показывает нам состояние нашей молитвенности, молитвенного общения с миром святых. И церковной жизни. В будние дни редко когда мы даже знаем, память каких святых совершается без заглядывания в календарь.
Чему мы хотим и готовы научиться у новомучеников? Нам бы здоровьица, благополучия, уюта. Как-то монахини одного монастыря накануне праздника, находясь в бедственном положении, стали молиться св. Иоанну Крестителю, покровителя монашествующих, чтобы он послал им на праздник утешение на трапезу. И вот во сне является игуменье св. Иоанн и грозно говорит: «Как же вы удумали у меня, постника, просить обильных яств?»
Дело ведь не просто в необходимости формальной пропаганды подвига новомучеников, а необходимости живой связи с ними, нравственного научения через этот бесценный опыт. Современному человеку, входящему в церковную жизнь, подчас до невыносимости тяжело читать Жития святых св. Димитрия Ростовского о первомучениках: витиеватый сложный язык, дидактичность, совершенно иной культурный фон. В результате подлинные жизнеописания начинают казаться нашему критичному современнику сказками. И тенденция отношения к житиям как к сказкам, только нарастает. Другое дело, когда читаешь свидетельства новомучеников и исповедников. Думаю, это понимает любой, кто прочел хотя бы автобиографию свят. Луки Войно-Ясенецкого «Я полюбил страдание». Настолько зримо, конкретно и убедительно предстает перед взором образ святого, что сердце замирает от благоговения.
В наших силах молиться новомученикам, называть их именами своих детей, посвящать им храмы, изучать их опыт, духовно возрастать на их примере. Практически во всем мире сегодня идет притеснение христиан, их дискриминация, переходящая в гонения. На Востоке христиане составляют угнетаемое меньшинство по отношению к мусульманам, на Западе – со стороны идеологии толерантности и растущей христианофобии. Лишь в России и других немногих странах еще сохраняется такая широкая свобода у христиан. Но взирая на нашу недостойную жизнь, мы должны помнить опыт 1917 года, когда православие из господствующей религии стало гонимой. Помнить, как легко и неожиданно может все измениться. И быть готовыми к новым гонениям, имея благодатную помощь новомучеников и исповедников, в земле Российской просиявших.
Нам кажется, что если придут за нами, все будет так: стоим мы на площади перед императорским судилищем, с усмешкой взирая на врагов. «Отрекись от Христа!» - говорят нам. Мы мужественно не отрекаемся, нас казнят, все потрясены и восхищены нашей стойкостью. Подвиг мученичества рисуется как геройский поступок на войне в советских фильмах. Но то фильм и образ, а реальность куда более прозаична.
Никаких речей, ничтожный безграмотный следователь, побои и болезни, голод – и все это долгие-долгие тюремные обыденные годы, мертвяще-монотонные в своей бесконечности, в безвестности и презрении. С одной перспективой – ямой-могилой без креста, когда смерть превращается в «сдохни как собака». «Религиозников» чаще всего старались определить на самые черные и унизительные работы, зная, как это тяжело для человеческого достоинства: пусть епископ чистит нужники! Поместить человека высокой культуры в среду блатарей, утративших человеческое подобие…
Прошли те времена. В актах канонизации Церковь явила исторический суд и правду о гонениях и насилии над верой и совестью человека. 90-е годы были временем восстановления из руин тысяч храмов, вхождением в лоно Церкви миллионов вчерашних атеистов и неверов. Как к живой воде, потянулись души к Истине. И чем более крепла Церковь, тем более явно выступал один парадокс: новая жизнь Церкви возродилась на крови новомучеников, благодаря их мужеству. Были канонизованы многие сотни святых, но в реальном выражении приходской жизни память о новомучениках, их почитание оказались где-то на окраине церковного сознания. Об этом часто говорят священники. 4 февраля 2011 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви был принят документ «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших». Само появление подобного документа более чем симптоматично и показательно. Из своего личного опыта вхождения в жизнь Церкви могу сказать, что о новомучениках я узнал не из приходской жизни, живой памяти, а из книг. И для меня это было потрясением: вот тысячи и тысячи мучеников за Христа, почти наших современников, их огненная вера, творившая чудеса, и вот наша обыденная церковная жизнь, в которой чего только нет, кроме этого живого непосредственного переживания подвига Церкви. Контраст этот усиливается, если мы с вами обратимся к аналогичным эпохам гонений первых веков. В то время авторитет мучеников и исповедников был иногда настолько велик, что их мнение почиталось выше епископского. В житиях святых того времени ясно прослеживается пафос Церкви, говорившей о своих мучениках. Их стойкость была свидетельством истинности христианства. Стояние за правду до смерти было высшим нравственным примером, покорявшим языческий мир.
Одной из важнейших причин конечно является сама природа советского режима, создававшего при проведении репрессий атмосферу секретности, страха и изоляции. Человек бесследно исчезал, и подробности последующей судьбы становились известны часто лишь в наше время после открытия архивов. Если в первые века христиане внутри общины во время гонений жили общей памятью о мучениках, то в советском обществе любое общение на подобные темы являлось антисоветчиной и становилось известным власти благодаря налаженной системе слежки. Сменялись целые поколения верующих, не имевших достаточной возможности передать память и традиции, иногда просто вырываемых из жизни большими чистками или великой войной. Тягучие 70-е годы с их встраиванием Церкви в одну из ниш жизни советского общества со строго установленными границами тоже не способствовали укреплению памяти о новомучениках. Наконец, в 90-х годах в Церковь вошли миллионы людей, чей опыт прежней жизни строился вне Церкви и Ее подвига, для которых все же опыт новомучеников стал внешним, отдаленным десятилетиями, не соотносящимся с их опытом мирной жизни в советском обществе. И, конечно же, только возрождающаяся Церковь не имела возможности рассказать о подвиге во всей его многообразности: сколько архивов до сего дня ждут своих исследователей, многим новомученикам не составлены подробные жития, не написаны службы и иконы. А тут еще новые проблемы, вызовы современности…
И все же кроме объективных причин необходимо выделить и субъективные. Когда мы говорим, что чтим память конкретного святого, мы прежде всего подразумеваем молитву. И рассматриваемая тема, кажется, наиболее ясно показывает нам состояние нашей молитвенности, молитвенного общения с миром святых. И церковной жизни. В будние дни редко когда мы даже знаем, память каких святых совершается без заглядывания в календарь.
Чему мы хотим и готовы научиться у новомучеников? Нам бы здоровьица, благополучия, уюта. Как-то монахини одного монастыря накануне праздника, находясь в бедственном положении, стали молиться св. Иоанну Крестителю, покровителя монашествующих, чтобы он послал им на праздник утешение на трапезу. И вот во сне является игуменье св. Иоанн и грозно говорит: «Как же вы удумали у меня, постника, просить обильных яств?»
Дело ведь не просто в необходимости формальной пропаганды подвига новомучеников, а необходимости живой связи с ними, нравственного научения через этот бесценный опыт. Современному человеку, входящему в церковную жизнь, подчас до невыносимости тяжело читать Жития святых св. Димитрия Ростовского о первомучениках: витиеватый сложный язык, дидактичность, совершенно иной культурный фон. В результате подлинные жизнеописания начинают казаться нашему критичному современнику сказками. И тенденция отношения к житиям как к сказкам, только нарастает. Другое дело, когда читаешь свидетельства новомучеников и исповедников. Думаю, это понимает любой, кто прочел хотя бы автобиографию свят. Луки Войно-Ясенецкого «Я полюбил страдание». Настолько зримо, конкретно и убедительно предстает перед взором образ святого, что сердце замирает от благоговения.
В наших силах молиться новомученикам, называть их именами своих детей, посвящать им храмы, изучать их опыт, духовно возрастать на их примере. Практически во всем мире сегодня идет притеснение христиан, их дискриминация, переходящая в гонения. На Востоке христиане составляют угнетаемое меньшинство по отношению к мусульманам, на Западе – со стороны идеологии толерантности и растущей христианофобии. Лишь в России и других немногих странах еще сохраняется такая широкая свобода у христиан. Но взирая на нашу недостойную жизнь, мы должны помнить опыт 1917 года, когда православие из господствующей религии стало гонимой. Помнить, как легко и неожиданно может все измениться. И быть готовыми к новым гонениям, имея благодатную помощь новомучеников и исповедников, в земле Российской просиявших.
Два года юности в кирзовых сапогах
И было все так: залитый утренним солнцем перрон, подрагивающие от волнения руки, букет алых роз, купленных матери. Сколько снилось ему это в армейских снах! Два года, 23 с половиной месяца за вычетом отпускных, 710 дней, 17040 часов, 1022400 минут между уходом и возвращением. Они были вечностью и пропастью, которым все же настал конец.
Левка, бравый солдатик в парадной форме, с замиранием сердца стоял на полутемной лестничной площадке, вслушиваясь, как по ту сторону позвякивала цепочка отпираемой двери. Открыла мать, близоруко щурясь на нежданного гостя, все еще не узнавая в сумраке, потом, узнав, с приглушенным криком бросилась к нему всем сухоньким телом, цепляясь за китель. Заходясь в плаче, она все повторяла, глотая светлые слезы: "Левушка-а-а! Ле-е-е-ва! Свет ты мой ясный! Сокол мой!". И вновь обрывалась плачем. Кусая губы и тщетно пытаясь сдержаться, Левка обнимал мать за хрупкие плечики. "Какой маленькой она стала – и совсем седой", – думалось ему с болью, бросающей в озноб. Выбежала сестренка.
Так Левка вернулся из армии. Как в дымке помнились ему последующие дни: пьянки с друзьями, похмелье, снова пьянки. Лишь иногда всплывали в сознании наполненные слезами глаза матери, уж не смевшей ни в чем перечить, когда она укладывала его чуть живого на кровать – до нового загула. Он пил первые две недели с каким-то остервенением и злорадством, стараясь забыть прошлое. Теперь все стало можно. Теперь лишь в кошмарах снилась армия. И все один сон: как он убирает снег на плацу и не успевает – и пришедший в ярость сержант начинает бить его палкой по ногам. И вот он уже падает, а он все бьет – уже пинками под дых, по печени, в лицо. Кровь расцветает алыми лепестками раскрошенных роз на белом снегу. Левка просыпался в холодном поту и осторожно ощупывал сросшуюся в переломе челюсть и вставленные зубы.
Отгуляв дембельское, перевидев всех знакомых и порядком им поднадоев, Левка призадумался. Казалось ему, когда он служил, что все только его и ждут, а вышло не так. Как-то многим было все равно. "Ну отслужил и отслужил. И что теперь?", – пожимали плечами успешно "закосившие" приятели. Вроде как вчера вечером попрощались: "А, Левка, уже пришел?! Ну и как там? Понравилось?", – и спешили по своим делам. Не было до него никому дела – и плевать, по сути, окружающим на его службу. Какой с него герой, когда ходит он в доармейских обносках, ни машины у него, ни работы, ни бабы. Когда Левка служил еще первые месяцы и постигал, будучи "духом", все премудрости уставной, а более неуставной жизни, как хотелось рассказать тем, кто остался на "гражданке", все, что здесь происходит, эту правду, прожигавшую его всквозь, о которой и не имеют понятия. Как бунтовало в нем чувство унижаемого достоинства! А теперь, видя сытые морды его преуспевающих приятелей – и пустые глаза тех, кто спивался или "сидел на игле" и кому было уже все "до фени", он лишь горько усмехался: никому не нужна была его жгучая, жуткая, жаркая правда, такая грубая и неудобная.
Через два месяца Левка стал устраиваться на работу. Сразу у него не заладилось. Все его образование – один курс брошенного института – никого не устраивало. Не было у него никакого пресловутого стажа и опыта работы (не считать же опытом работы два года вкалывания на благо Родины, отпинывающей его теперь как надоедливую собачонку). Кто бы поверил, глядя на его тщедушное телосложение, что он был в тайге и таскал листвяк на лесоповалах, заботливо устраиваемых для солдат отцами-командирами. Не верили, потому даже в грузчики на "постоянку" не брали. Ничего иного он более делать не умел. Никаких, естественно, льгот, красиво прописанных в законе как бывшему военнослужащему, ему никто не собирался предоставлять.
Помытарившись с месяц в поисках работы, заполнив бесчисленное множество идиотских анкет, Левка, наконец, устроился сторожем на стройке за 3,5 тыс. рублей в месяц. Сама стройка была на окраине города. В хозяйство Левке достался ветхий прокуренный и прокопченный вагончик – чем не хоромы?
Полюбились ему августовские ночи с дивными звездопадами. Прихватив купленную и загодя разведенную бутылку "технаря" и стопку, он садился на остро пахнувшие креазотом шпалы, сваленные вблизи вагончика, и смотрел в темно-синий горизонт, на котором вспыхивали звезды. Охмелев, он уже не мучился вопросом, для кого он отдал эти два года своей светлой юности в кирзовых сапогах, за что терпел и побои, и унижения, жил впроголодь, погибал на лесоповалах, вникая во все тяготы и лишения армейской службы. И почему он за это ничего не получил? А если лишь отдавал долг Родине, то почему только он? А остальные? Мимо по автостраде мчались машины тех, кому он отдал эти годы – и кому было глубоко плевать на это.
"В роте уже отбой", – думалось ему. Сколько их – тысяч и тысяч – сейчас поднималось дембелями. Вот сейчас их – "молодых" – унижают и бьют – в сушилках, бытовках, туалетах. Левке казалось, что он начинает слышать этот многотысячный крик избиваемых, переходящий в дикий рев, захлебывающийся слезами и кровью, крик насилуемой, растаптываемой каблуком сапога юности. И озноб охватывал сердце...
Совсем захмелев и зябко кутаясь, Левка засыпал здесь же, на шпалах. Всю ночь над его крохотной скорчившейся фигуркой плыло огромное звездное небо августа, баюкая и качая землю, как огромный корабль, на котором, забыв о милосердии и любви к ближнему, в спазмах осатанелой жестокости мучили друг друга люди.
И было все так: залитый утренним солнцем перрон, подрагивающие от волнения руки, букет алых роз, купленных матери. Сколько снилось ему это в армейских снах! Два года, 23 с половиной месяца за вычетом отпускных, 710 дней, 17040 часов, 1022400 минут между уходом и возвращением. Они были вечностью и пропастью, которым все же настал конец.
Левка, бравый солдатик в парадной форме, с замиранием сердца стоял на полутемной лестничной площадке, вслушиваясь, как по ту сторону позвякивала цепочка отпираемой двери. Открыла мать, близоруко щурясь на нежданного гостя, все еще не узнавая в сумраке, потом, узнав, с приглушенным криком бросилась к нему всем сухоньким телом, цепляясь за китель. Заходясь в плаче, она все повторяла, глотая светлые слезы: "Левушка-а-а! Ле-е-е-ва! Свет ты мой ясный! Сокол мой!". И вновь обрывалась плачем. Кусая губы и тщетно пытаясь сдержаться, Левка обнимал мать за хрупкие плечики. "Какой маленькой она стала – и совсем седой", – думалось ему с болью, бросающей в озноб. Выбежала сестренка.
Так Левка вернулся из армии. Как в дымке помнились ему последующие дни: пьянки с друзьями, похмелье, снова пьянки. Лишь иногда всплывали в сознании наполненные слезами глаза матери, уж не смевшей ни в чем перечить, когда она укладывала его чуть живого на кровать – до нового загула. Он пил первые две недели с каким-то остервенением и злорадством, стараясь забыть прошлое. Теперь все стало можно. Теперь лишь в кошмарах снилась армия. И все один сон: как он убирает снег на плацу и не успевает – и пришедший в ярость сержант начинает бить его палкой по ногам. И вот он уже падает, а он все бьет – уже пинками под дых, по печени, в лицо. Кровь расцветает алыми лепестками раскрошенных роз на белом снегу. Левка просыпался в холодном поту и осторожно ощупывал сросшуюся в переломе челюсть и вставленные зубы.
Отгуляв дембельское, перевидев всех знакомых и порядком им поднадоев, Левка призадумался. Казалось ему, когда он служил, что все только его и ждут, а вышло не так. Как-то многим было все равно. "Ну отслужил и отслужил. И что теперь?", – пожимали плечами успешно "закосившие" приятели. Вроде как вчера вечером попрощались: "А, Левка, уже пришел?! Ну и как там? Понравилось?", – и спешили по своим делам. Не было до него никому дела – и плевать, по сути, окружающим на его службу. Какой с него герой, когда ходит он в доармейских обносках, ни машины у него, ни работы, ни бабы. Когда Левка служил еще первые месяцы и постигал, будучи "духом", все премудрости уставной, а более неуставной жизни, как хотелось рассказать тем, кто остался на "гражданке", все, что здесь происходит, эту правду, прожигавшую его всквозь, о которой и не имеют понятия. Как бунтовало в нем чувство унижаемого достоинства! А теперь, видя сытые морды его преуспевающих приятелей – и пустые глаза тех, кто спивался или "сидел на игле" и кому было уже все "до фени", он лишь горько усмехался: никому не нужна была его жгучая, жуткая, жаркая правда, такая грубая и неудобная.
Через два месяца Левка стал устраиваться на работу. Сразу у него не заладилось. Все его образование – один курс брошенного института – никого не устраивало. Не было у него никакого пресловутого стажа и опыта работы (не считать же опытом работы два года вкалывания на благо Родины, отпинывающей его теперь как надоедливую собачонку). Кто бы поверил, глядя на его тщедушное телосложение, что он был в тайге и таскал листвяк на лесоповалах, заботливо устраиваемых для солдат отцами-командирами. Не верили, потому даже в грузчики на "постоянку" не брали. Ничего иного он более делать не умел. Никаких, естественно, льгот, красиво прописанных в законе как бывшему военнослужащему, ему никто не собирался предоставлять.
Помытарившись с месяц в поисках работы, заполнив бесчисленное множество идиотских анкет, Левка, наконец, устроился сторожем на стройке за 3,5 тыс. рублей в месяц. Сама стройка была на окраине города. В хозяйство Левке достался ветхий прокуренный и прокопченный вагончик – чем не хоромы?
Полюбились ему августовские ночи с дивными звездопадами. Прихватив купленную и загодя разведенную бутылку "технаря" и стопку, он садился на остро пахнувшие креазотом шпалы, сваленные вблизи вагончика, и смотрел в темно-синий горизонт, на котором вспыхивали звезды. Охмелев, он уже не мучился вопросом, для кого он отдал эти два года своей светлой юности в кирзовых сапогах, за что терпел и побои, и унижения, жил впроголодь, погибал на лесоповалах, вникая во все тяготы и лишения армейской службы. И почему он за это ничего не получил? А если лишь отдавал долг Родине, то почему только он? А остальные? Мимо по автостраде мчались машины тех, кому он отдал эти годы – и кому было глубоко плевать на это.
"В роте уже отбой", – думалось ему. Сколько их – тысяч и тысяч – сейчас поднималось дембелями. Вот сейчас их – "молодых" – унижают и бьют – в сушилках, бытовках, туалетах. Левке казалось, что он начинает слышать этот многотысячный крик избиваемых, переходящий в дикий рев, захлебывающийся слезами и кровью, крик насилуемой, растаптываемой каблуком сапога юности. И озноб охватывал сердце...
Совсем захмелев и зябко кутаясь, Левка засыпал здесь же, на шпалах. Всю ночь над его крохотной скорчившейся фигуркой плыло огромное звездное небо августа, баюкая и качая землю, как огромный корабль, на котором, забыв о милосердии и любви к ближнему, в спазмах осатанелой жестокости мучили друг друга люди.
Соседи
С утра и в день - отвесно летящий снег. Ещё предзимний, мокрый, тяжело валящий и глушью окрывший деревенскую округу. Пеленает он землю, ещё не выстывшую, робко скрадывающую последнее осеннее тепло. Сутёмистая пасмурь окрест. Воскресенье. В моём пустоуглом бессемейном доме - притаённая тишина, готовая броситься мягколапой рысью на мой письменный стол. Раздумчивое тиктаканье часов да звонистое дзиньканье счётчика чутливо стерегут ее. Благостное миротворное безделье растворено в неторопко, струисто льющемся покое выходного дня.
С заснеженного двора через скосившийся забор доносится ширканье двуручной пилы. Я подхожу к окну и смотрю, как сосед - среднерослый, со впалыми щеками, лет 27-ми вместе с жёнушкой своей, Стюрой, осерёд ограды пилят дрова - невесть где раздобытые гнилушки. Стюра - в замызганном синем платке, сбившемся на затылок - уже, видно, на сносях. Пилят они с частыми перекурами, неладно, бесперечь переругиваясь.
Пуст и просторен двор моих соседей, большей частью поросший дурнотравьем, кустистым репейником, да вознёсшимися стройными султанчиками конского щавеля. Все стайки и сараюшки, загородье всяческое уж давно разобраны на дрова и притоплены, благо нужды в них нет за отсутствием какого-либо хозяйства и животины. Неприютная ширь да раздолье забредающим бездомным ветрам, что до отчаянья мечутся здесь в осеннюю пору.
Крепок ещё приземистый сосновый дом с тёмно-рыжими скатными брёвнами. Видно, когда-то добротно жили в нём со всей положенной крестьянину обстоятельностью прежние хозяева, работящие и обиходистые. Нонешним-то уж скоро годками к 30-ти подойдёт, а словно и не начинали жить.
Почти каждое утро я просыпаюсь около 6 часов от тюканья топора - это Виталька - так зовут соседа - колет дрова, чтоб поскорей затопить печь в нестерпимо выстывшем доме. В доме - ребятишки. Колет с тяжкого охмелья. Мутит его от подступающей дурноты. Дышит он с сапом, шумно, зло матерясь и сплёвывая.
Пьёт Виталька напару с женой, по семейному, до драк и потасовок среди воющих от страха детей. Увернувшись от летящих в него кастрюль и сковородок и сшибив с ног свою ненаглядную, уж начинает бить долго, обстоятельно и неторопясь, за то, что "детей нащенила, сука, а теперь им жрать нечего", за то, что курево кончилось, за всю эту сволочную конченную говённую жизнь. Хвостать будет до устали, пока пьяно не завалится спать. Тогда уж выскочит по кошачьи Стюра из избы к какому-нибудь "утешителю", обретающемуся через дом, и в грешке будет пьяненько смеяться и плакать, похабно понося мужа. Все дети её - разномастные погодки, ни одного - в мужа.
От небрежного отношения к внешности своей, от пьянок и дебошей, выхаживаемых бесконечных беременностей, плохого питания, от прочего, чем так богата нищая с пьяным угаром жизнь, лицо её, некогда миловидное, уже издурнело, став линялым и притасканным, но хранит по-прежнему взбаламошную злость и нагловатую непокорность. Ходит Стюра, опирая руку на поясницу и выпячивая живот, на язык - остра и зла, матершинница редкостная. Оттого с окрестными бабами цапается легко, с каким-то азартом и крикливым куражом.
Так и живут - ещё молодые - впроголодь, в пьяном чаду, неопрятно и как попало: лишь бы день сбыть. В общем как и везде те, кого молва деревенская легко крестит лодырями и алкашьём.
Одно непостижно мне, выросшему в деревне и навидевшемуся подобного, - это их тупая, животная, бездумная жестокость к своим детям, полнейшее безразличие к их судьбам, полнейшая безответственность к своим зачастую голодным, нищим, нечисто одетым "кровинушкам", не видящим света, уюта и ласки, не ведающим тепла семейного сожития, совершенно не способных защитить себя. Над их детством надругались и обворовали его эти давшие им жизнь взрослые. Их будущее залито беспроглядной тьмой, редок их смех. И сколько читается в этих светло, пронзительно и недоумённо глядящих в тебя глазах …
Отбита во мне, словно тяжёлыми ударами сапог, жалость к таким "родителям", да лишь поскуливает из глубин души брошенным щенком, пробивается Божьим цветком милосердия, вновь и вновь втаптываемого. Но оттого мерзит и к этому обществу, до тупости равнодушному к подобной чудовищности. Это до того обыденно, привычно, в порядке вещей, что уже не прошибить, не докричаться.
Нежитью тянет от будто вымороченного жилья деревенских забулдыг, растерявших и себя, и все пути свои, и всякий смысл, и всякое ощущение реальности. Всё и страшно, и совсем не в понарошку, но ничего не важно, кроме удовлетворения самых низших потребностей, заменивших всё, заставляющих дышать, двигаться, принимать пищу. Во имя ничего. Последнее оставшееся прибежище - в пьяном мороке хмеля…
Несёт липким снежком на переплёты оконных рам. На улице всё так же затишно. Ранние сумерки набегают мерклой невидью. Дрова допилены, скоро над соседской трубой взовьётся неуверенный и носимый приблудным ветерком молочно-голубой дымок. Хозяйка что-то будет мороковать над скудным ужином, издумывая, как напитать эту прорву ненасытных ребятишек, да ублажить придиристого, вечно злого и дураковатого муженька. А внизу её пухнущего живота будет всё тяжелеть и наливаться соками жизни ребёнчишко, по пьяни прижитый, нежеланный и неугодный, нелюбимый уже сейчас, но ещё не ведающий, на какую бессветную смертную муку посылается он в этот заметаемый снегом, словно оглохший и замерший в оцепенении мир.
Былинки
Былинки
– это собрание зарисовок и заметок о жизни, размышлений над вполне
обыденными событиями, кратких по форме. Того, что было и что оставило во
мне свой след. Зачастую бывает так, что в малом отражается вся
повседневность наша, со всеми её изломами и извитиями. Вещи вдруг словно
проговариваются о своей сути. И заметить это означает посмотреть в
перспективе на тот путь, которым мы идём. Увидеть мир в его подлинности и
настоящности. Это приглашение к соразмышлению над современностью, повод
оглядеться и призадуматься.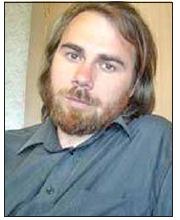 Олег КУРЗАКОВ
Олег КУРЗАКОВ
Сны
о детстве
Потянет душу во дни вешнеталицы перелётным косяком на север, к родному домовью…
Вспомнится вдруг, как мы мальчишками, забравшись на обсохлый пригорок, искали уже наросшую заячью капусту, на вкус кисловатую и колючую. Складником (без которого ни один деревенский мальчишка себя не мыслил) выкапывали хлипкие, с тонким стебельком хлебенки, напоминавшие сладившую картошку из погреба.
А солнышко полдневное и ветерок – тёплые да ласковые, что ладони мамы. И землёй так пахнет – не сказать мне, слов таких не найти.
Тогда мог, забыв обо всём, долго-долго смотреть, как меж травинок трудолюбивый и мудрый муравей старается унести свою ношу. Вот ведь, не для себя, а к собратьям тянет, хлопотливо суетясь. Зачем несёт, кто повелел и как дорогу находит? Всё удивляло тогда, до всего было дело. Вот вымыло в колее с золотым блеском камушек – пирит. Что за камень, может, золото? Забот на день.
Какая радость была в этих весенних днях: шумливые ручейки, резво несущиеся в лога, парчой сияющий на солнце снег, уже осевший, по утрам лежащий твёрдым настом. На укатанной санными полозьями дороге вытаивают конские катыши, очёски сена и соломенная полова. Потемневший лес за огородами зябнет в сырости. Вот-вот скворцы прилетят, начнутся птичьи перебранки с воробьями по квартирному вопросу.
Есть тайность и странность в человеческой памяти: детство навсегда прошло, но закрываю глаза – и вот оно – рукой дотянуться можно и шагнуть из этих взрослых тяжёлых лет в ясносолнечный незаходимый день, нескончаемо длящийся под высоким куполом неба. Иногда проснусь осеред ночи, в самый глубокий час её – и с закрытыми глазами начинаю слушать настоявшуюся будто индийским чаем тишину. Как разливистым водопольем найдёт далёкое прошлое, и заторопит, и понесёт в свои невесомые дали. И так вдруг покажется, что я ещё мальчишка, лежу на своей детской кровати в родном доме, а всё, что потом, мне просто приснилось – и институт, и армия, и скитания, и утраты, и города, и разлуки. Надо же – такое снится! Вздохнуть бы – и забыть этот сон, зная, что утром разбудит мама прикосновением ласковой ладони – как того вешнего солнышка. Знать, что мамы не умирают, ведь не могут умереть они – ясноглазые, самые добрые и нежные, похожие на ангелов.
Утром надо в школу, а уроки по математике с вечера не сделал. Может, всё-таки пронесёт. После уроков будем с ребятами строить запруду на талом ручье. Но это всё завтра… Натянув на себя одеяло, вновь засыпаю, уплывая восьмилетним капитаном в лазорево-дымчатый горизонт детства.
Чтобы
помнили
Дочка начинает ходить. И боязно ей, и хочется пойти без опоры. Убирая руку от дивана, приседает от неожиданности, вновь встаёт, что-то возмущённо лопочет. И вдруг с улыбкой поднимает личико. «Ведь правда, папа, я хорошая?!» Ах, дочка…
Вспомнилась мне поездка с одним иеромонахом, служащим при храме детского дома, в приют женского монастыря. Приехали поздравить с именинами воспитанницу детдома, переведённую сюда. У монастырских ворот нас уже ждала девочка лет восьми, Аня, тонкая да звонкая, лёгкая да ясная, будто ветерок летний, девочка с лицом ангела.
Были поздравления, подарки и чаепитие. Аня вся светилась от радости. Сёстры-воспитательницы нахваливали: уж до чего прилежная и трудолюбивая, добрая да разумная! В приюте девочке так поглянулось после детдомовской казёнщины, что расцвела она отзывчивой душой и всяким умением. Аня показывала и рисунки свои, и первую вышивку, и обширное монастырское хозяйство со всей его живностью. И всё же видно было, что в ней, как во всяком ребёнке, душа просилась в семейный уют, под родительский кров, как просится в дом выброшенный на холод котёнок, слабыми коготками царапаясь в дверь. «Ведь правда, я – хорошая?! Ведь правда?!»
Ехали обратно сквозь багряно-янтарный лес. Среди разлившейся прозрачной тишины стояли рощицы тонкоствольных берёзок под приглядом осанистых елей, застывших в вековечных думах. С их разлапистых веток свисал зеленовато-пепельный мох, словно старческая проседь времени. Казалось, мчалась ещё этим лесом конная дружина Евпатия Коловрата, позвякивая стременами и посверкивая кольчугами, всё пытаясь настигнуть ворога, поганящего Русь. Неслись они, древние и седобородые витязи, и не могли настигнуть, заставая на пути лишь пепелища и разор. Осеннее шафрановое солнце катилось над нами по овершьям деревьев. Старинной исщербленной сталью взблескивали излучины тихих старорусских рек с певучими былинными именами. Изредка выбегали на обочины нищие, точно разграбленные деревеньки и юродливо щурились подслеповатыми окнами. Будто выпрашивая на опохмелку, пьяненько куражась и приплясывая, они всё выпячивали голые рёбра скосившихся дощатых заборов.
И грызли меня дорогой вопросы: «Где сейчас родители девочки, оставившие её в детдоме? Как живётся-можется им? Как строят они своё счастье? И как спится им по ночам, не ведавшим терзаний маленького детского сердца, всё пытающегося найти вину в себе за то, что отреклись от него родители».
Стояла девочка у ворот и махала нам вслед своей тонкой рукой, что берёзка веточкой. В золотисто-карих глазах её той же древней рекой сквозила совсем взрослая грусть, искрясь веселинками на перекатах, кружась омутами женской печали. Чтобы мы не забывали её, так старающуюся быть хорошей и нужной людям. Чтобы знали и помнили. Не сошлись
Не сошлись
характером
Рушится семья близкого друга. Есть ребёнок, свой дом, работа, здоровье, достаток. Жена красавица, муж работящий и домовитый, но вместе – невмоготу. Характером не сошлись. Кроха-сын, нерасторжимо единящий в себе их кровь, последней ниточкой соединяет двух людей, ставших чужими друг другу. По вечерам, после рабочего дня, – крик и хлопанье дверями. И ещё не сказанное, но про себя решённое почти наверняка: «Разводиться!»
Болит вот у человека рука – долго и нудно. И будет терпеть её, и лялькать, и лечить всеми мыслимыми и немыслимыми способами. И на ампутацию согласится лишь тогда, когда уж будет прямая угроза жизни. Даже с сохлой, скрюченной рукой согласится жить, чем без неё. Почему же половина современных браков избирает ампутацию – да на живую? Пожили, не сошлись характером, разбежались. Баба с ребёнком, бросивший мужик – кто, как не инвалиды? И среди кого они будут искать себе новую половинку? Принцы и принцессы их годков вышли, одна шваль осталась. Вот и будут они урывать мужатых да женатых, да рушить чужие семьи. И пойдёт их личная боль и злоба гулять по свету, калеча и коверкая другие судьбы.
Рассыпается карточным домиком молодая семья, имеющая вроде всё внешнее, но не обладающая лишь одним – любовью. Не той воздушно-порхающей влюблённостью, что переменчивее весеннего ветерка, а любовью, которая «крепка как смерть», которая «не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражает, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, всё покрывает, всему верит, всё переносит».
О чём же я? Разве есть у меня такая любовь? Разве могу осуждать? Значит, и во мне, как и во всех окружающих нас, есть взаимная вина за случившееся. Мы научаемся друг у друга равнодушию, себялюбию, неуступчивости. Упрямые в своей правоте и упорные в стягивании на себя общего одеяла. Мы живём будто в старой вселенской коммуналке, со скандалами и дрязгами у кухонной плиты, со сквозняками и крысами, шастая по чужим постелям и карманам, толкаясь в очередях за счастьем.
Где найти доводы, способные убедить не делать последнего шага? Стоят два человека спиной друг к другу, сжав ладони в кулаки. И недоумённо смотрит на них сынишка очами Божьими, запрокидывая своё личико и пытаясь обнять и смирить их, самых любимых и дорогих ему, готовых шагнуть в отверстую пропасть.
За бортом
современности
На городской свалке возле моего дома каждый находит своё. Опухший от перепоя и побоев бездомный перебирает пакеты в поисках объедков и тёплых вещей. До хрипоты заходится в кашле, закидывая на плечо грязный мешок и отправляясь до следующего «острова сокровищ». Из ближайших пятиэтажек наведываются таджики, забирая выброшенную мебель. Перед вывозом мусора на убитых «Жигулях» появляется армянин с сыном: собирают металлолом. Дед-пенсионер волочёт рамы для теплицы и фанеру для дачи. Старая бабушка всё ахает и не может привыкнуть к такому, разбирая фасонистые платья: «Вот все плохо живут, а выбрасывают-то, выбрасывают-то! Да мы после войны о таких вещах мечтали только, а сейчас на помойку, ведь новые!» Для своей собачки подбирает куски хлеба, встречаются и целые буханки, видно перележавшие в холодильнике. Тяжело вздыхая, бредёт она до своей квартиры, опираясь на самодельный батожок, в думах о болезнях и одиночестве да маленькой пенсии.
Выбрасывают и правда многое: двери и рамы после ремонта квартир, мягкую мебель, кухонные гарнитуры, посуду, одежду и обувь, детские коляски и вещи, старую бытовую технику. И ещё – книги. Ко всему я сдержан, проходя мимо, хотя моё деревенское нутро протестует, когда вижу стекло, доски, фанеру. Но книги…
В первый раз я был потрясён, когда увидел выброшенные Евангелие, молитвословы, недорогие иконочки. В кучу были свалены от руки переписанные последования богослужений, каноны и акафисты, помянники с именами людей, о которых кто-то молился. Набранная на печатной машинке Псалтирь. Всё это было из того советского времени, когда это переписывалось, передавалось, бережно хранилось. Было похоже на то, что умерла бабушка, а весь её нехитрый скарб просто выбросили.
В другой раз среди выброшенных книг оказался учебник русской истории 1911 г. под редакцией проф. С. Платонова. Вот ведь кто-то всё советское время хранил книгу, за которую могли посадить, а в наши дни «возрождения исторической памяти и национальной культуры» выбросили.
Выбрасывается техническая литература, медицинская, литературные журналы 90-х годов, школьные учебники. А как же не выбросить: квартиру сделали под евроремонт, мебель новую купили, а тут эта макулатура портит «дизайн» и лишнее место занимает. Кому это читать? Да и до чтения ли в наше время?
В помойной жиже разбросано собрание сочинений Гоголя. Почему-то именно классики очень много оказывается на свалке. Тех советских изданий, за которыми стояли в очередях и доставали по блату. Часто тома новенько похрустывают, когда открываешь их: десятка три лет простояли за стеклом в «стенках» и так ни разу не были открыты для чтения, вплоть до выброса. Вот Чехов Антон Палыч интеллигентно и скорбно взирает сквозь своё неизменное пенсне с обложки книги рассказов, втоптанной в нечистоты. По распахнутому развороту сборника стихов Есенина жирный и грязный отпечаток кроссовка, словно по душе и совести народной…
Подбираю из груды валяющихся книг репринт-издание дореволюционных «Правил светской жизни и этикета». Открываю наугад. «Вежливость есть плод хорошего воспитания и привычки обращаться с людьми благовоспитанными»; «Уметь слушать столь же необходимо, как и уметь говорить… Ничто не может быть более невежливым, как прерывать того, кто говорит»; «От большей части рюмок отказывайтесь и пейте лишь столько, чтобы постоянным отказом не обидеть хозяина»; «Надевать одновременно красное с зелёным или розовое с жёлтым значит нарушать все принципы вкуса»; «Гораздо лучше и приличнее вовсе не носить никаких драгоценностей, чем нацеплять на себя дешёвые подделки»; «Уважающая себя женщина никогда не должна придерживаться моды, которая шокирует скромность и стыдливость»; «Опрятная и приличная наружность почти всегда указывает на порядочность человека»; «Мы должны искренно, до самоотвержения любить нашу семью»; «Исправляйте недостатки вашего характера, они могут сделаться несчастием для всех окружающих вас»; «Избегайте всяких излишеств: они позорят человека и расстраивают здоровье»; «Любите искренно ваше отечество. Храбрость, так же как и любовь к отечеству, одна из величайших добродетелей гражданина. Любить отечество – это любить своих сограждан, это сочувствовать их горестям, это заботиться о народном благополучии».
Да уж, куда как не на помойку подобную книжку. Мракобесие да ересь!
А впрочем, не будем о грустном. Мы ведь возрождаемся, растёт национальное самосознание, вступаем в ВТО, строим «Москва-Сити», развиваем нанотехнологии. В ногу с современностью, товарищи-господа, не отставайте, бодрее и в ногу, в светлое нанобудущее!
Слушая
тишину
Компания семиклассников идёт по заснеженной аллее. Мальчишки толкают девочек в снег, те визжат, бросаются в ответ снежками. Всё это под весёлую заборную матерщину, в которой вроде и не слышно злобы.
– Машка, ах ты, шмара! – смеясь, кричит мальчишка Машке. Она, миловидная, прилично одетая, отвечает «непереводимой игрой слов». Мальчик добавляет ещё тот набор похабнейших выражений и эпитетов, который по отношению к девушке считается самым оскорбительным. Но никто не оскорбляется, ребята весело продолжают играть в снежки.
Встречь устало топает бабка с тяжёлой кошёлкой. Но и её не замечают, да и она не обращает внимания на матерящуюся ребятню. Я вдруг понимаю, что это не детское «дурак – сам дурак», а обыденный привычный стиль общения. Они так разговаривают и, кажется, весьма удивляются, когда им делают замечания. А что, собственно, такого? Так ведь все говорят. И в школе, и дома, и на улице. Ну, Марья Ивановна, конечно, в школе не выражается, но, рассказывают, дома всё же позволяет себе в сердцах.
Дети весёлой гурьбой скрываются за углом, тихнут шаги, мягкой воздушной волной накатывает тишина. Вот слышно стало, как тенькает синица и падает сухая веточка. Такая тишь, чистая, прозрачная, невесомая! Закрыв глаза, стою пару минут и слушаю благоуханное безмолвие предвесеннего парка. Пахнет тополиными почками и талым снегом. Может, я стареть начинаю: «А вот в наше время!»… Намолчать бы вот так мудрости и тишины впрок – червлёным старинным золотом, напиться ими вволю из пригоршней осенней задумчивой водой.
Курагино,
Красноярский край
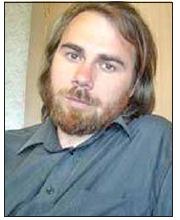 Олег КУРЗАКОВ
Олег КУРЗАКОВСны
о детстве
Потянет душу во дни вешнеталицы перелётным косяком на север, к родному домовью…
Вспомнится вдруг, как мы мальчишками, забравшись на обсохлый пригорок, искали уже наросшую заячью капусту, на вкус кисловатую и колючую. Складником (без которого ни один деревенский мальчишка себя не мыслил) выкапывали хлипкие, с тонким стебельком хлебенки, напоминавшие сладившую картошку из погреба.
А солнышко полдневное и ветерок – тёплые да ласковые, что ладони мамы. И землёй так пахнет – не сказать мне, слов таких не найти.
Тогда мог, забыв обо всём, долго-долго смотреть, как меж травинок трудолюбивый и мудрый муравей старается унести свою ношу. Вот ведь, не для себя, а к собратьям тянет, хлопотливо суетясь. Зачем несёт, кто повелел и как дорогу находит? Всё удивляло тогда, до всего было дело. Вот вымыло в колее с золотым блеском камушек – пирит. Что за камень, может, золото? Забот на день.
Какая радость была в этих весенних днях: шумливые ручейки, резво несущиеся в лога, парчой сияющий на солнце снег, уже осевший, по утрам лежащий твёрдым настом. На укатанной санными полозьями дороге вытаивают конские катыши, очёски сена и соломенная полова. Потемневший лес за огородами зябнет в сырости. Вот-вот скворцы прилетят, начнутся птичьи перебранки с воробьями по квартирному вопросу.
Есть тайность и странность в человеческой памяти: детство навсегда прошло, но закрываю глаза – и вот оно – рукой дотянуться можно и шагнуть из этих взрослых тяжёлых лет в ясносолнечный незаходимый день, нескончаемо длящийся под высоким куполом неба. Иногда проснусь осеред ночи, в самый глубокий час её – и с закрытыми глазами начинаю слушать настоявшуюся будто индийским чаем тишину. Как разливистым водопольем найдёт далёкое прошлое, и заторопит, и понесёт в свои невесомые дали. И так вдруг покажется, что я ещё мальчишка, лежу на своей детской кровати в родном доме, а всё, что потом, мне просто приснилось – и институт, и армия, и скитания, и утраты, и города, и разлуки. Надо же – такое снится! Вздохнуть бы – и забыть этот сон, зная, что утром разбудит мама прикосновением ласковой ладони – как того вешнего солнышка. Знать, что мамы не умирают, ведь не могут умереть они – ясноглазые, самые добрые и нежные, похожие на ангелов.
Утром надо в школу, а уроки по математике с вечера не сделал. Может, всё-таки пронесёт. После уроков будем с ребятами строить запруду на талом ручье. Но это всё завтра… Натянув на себя одеяло, вновь засыпаю, уплывая восьмилетним капитаном в лазорево-дымчатый горизонт детства.
Чтобы
помнили
Дочка начинает ходить. И боязно ей, и хочется пойти без опоры. Убирая руку от дивана, приседает от неожиданности, вновь встаёт, что-то возмущённо лопочет. И вдруг с улыбкой поднимает личико. «Ведь правда, папа, я хорошая?!» Ах, дочка…
Вспомнилась мне поездка с одним иеромонахом, служащим при храме детского дома, в приют женского монастыря. Приехали поздравить с именинами воспитанницу детдома, переведённую сюда. У монастырских ворот нас уже ждала девочка лет восьми, Аня, тонкая да звонкая, лёгкая да ясная, будто ветерок летний, девочка с лицом ангела.
Были поздравления, подарки и чаепитие. Аня вся светилась от радости. Сёстры-воспитательницы нахваливали: уж до чего прилежная и трудолюбивая, добрая да разумная! В приюте девочке так поглянулось после детдомовской казёнщины, что расцвела она отзывчивой душой и всяким умением. Аня показывала и рисунки свои, и первую вышивку, и обширное монастырское хозяйство со всей его живностью. И всё же видно было, что в ней, как во всяком ребёнке, душа просилась в семейный уют, под родительский кров, как просится в дом выброшенный на холод котёнок, слабыми коготками царапаясь в дверь. «Ведь правда, я – хорошая?! Ведь правда?!»
Ехали обратно сквозь багряно-янтарный лес. Среди разлившейся прозрачной тишины стояли рощицы тонкоствольных берёзок под приглядом осанистых елей, застывших в вековечных думах. С их разлапистых веток свисал зеленовато-пепельный мох, словно старческая проседь времени. Казалось, мчалась ещё этим лесом конная дружина Евпатия Коловрата, позвякивая стременами и посверкивая кольчугами, всё пытаясь настигнуть ворога, поганящего Русь. Неслись они, древние и седобородые витязи, и не могли настигнуть, заставая на пути лишь пепелища и разор. Осеннее шафрановое солнце катилось над нами по овершьям деревьев. Старинной исщербленной сталью взблескивали излучины тихих старорусских рек с певучими былинными именами. Изредка выбегали на обочины нищие, точно разграбленные деревеньки и юродливо щурились подслеповатыми окнами. Будто выпрашивая на опохмелку, пьяненько куражась и приплясывая, они всё выпячивали голые рёбра скосившихся дощатых заборов.
И грызли меня дорогой вопросы: «Где сейчас родители девочки, оставившие её в детдоме? Как живётся-можется им? Как строят они своё счастье? И как спится им по ночам, не ведавшим терзаний маленького детского сердца, всё пытающегося найти вину в себе за то, что отреклись от него родители».
Стояла девочка у ворот и махала нам вслед своей тонкой рукой, что берёзка веточкой. В золотисто-карих глазах её той же древней рекой сквозила совсем взрослая грусть, искрясь веселинками на перекатах, кружась омутами женской печали. Чтобы мы не забывали её, так старающуюся быть хорошей и нужной людям. Чтобы знали и помнили.
 Не сошлись
Не сошлисьхарактером
Рушится семья близкого друга. Есть ребёнок, свой дом, работа, здоровье, достаток. Жена красавица, муж работящий и домовитый, но вместе – невмоготу. Характером не сошлись. Кроха-сын, нерасторжимо единящий в себе их кровь, последней ниточкой соединяет двух людей, ставших чужими друг другу. По вечерам, после рабочего дня, – крик и хлопанье дверями. И ещё не сказанное, но про себя решённое почти наверняка: «Разводиться!»
Болит вот у человека рука – долго и нудно. И будет терпеть её, и лялькать, и лечить всеми мыслимыми и немыслимыми способами. И на ампутацию согласится лишь тогда, когда уж будет прямая угроза жизни. Даже с сохлой, скрюченной рукой согласится жить, чем без неё. Почему же половина современных браков избирает ампутацию – да на живую? Пожили, не сошлись характером, разбежались. Баба с ребёнком, бросивший мужик – кто, как не инвалиды? И среди кого они будут искать себе новую половинку? Принцы и принцессы их годков вышли, одна шваль осталась. Вот и будут они урывать мужатых да женатых, да рушить чужие семьи. И пойдёт их личная боль и злоба гулять по свету, калеча и коверкая другие судьбы.
Рассыпается карточным домиком молодая семья, имеющая вроде всё внешнее, но не обладающая лишь одним – любовью. Не той воздушно-порхающей влюблённостью, что переменчивее весеннего ветерка, а любовью, которая «крепка как смерть», которая «не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражает, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, всё покрывает, всему верит, всё переносит».
О чём же я? Разве есть у меня такая любовь? Разве могу осуждать? Значит, и во мне, как и во всех окружающих нас, есть взаимная вина за случившееся. Мы научаемся друг у друга равнодушию, себялюбию, неуступчивости. Упрямые в своей правоте и упорные в стягивании на себя общего одеяла. Мы живём будто в старой вселенской коммуналке, со скандалами и дрязгами у кухонной плиты, со сквозняками и крысами, шастая по чужим постелям и карманам, толкаясь в очередях за счастьем.
Где найти доводы, способные убедить не делать последнего шага? Стоят два человека спиной друг к другу, сжав ладони в кулаки. И недоумённо смотрит на них сынишка очами Божьими, запрокидывая своё личико и пытаясь обнять и смирить их, самых любимых и дорогих ему, готовых шагнуть в отверстую пропасть.
За бортом
современности
На городской свалке возле моего дома каждый находит своё. Опухший от перепоя и побоев бездомный перебирает пакеты в поисках объедков и тёплых вещей. До хрипоты заходится в кашле, закидывая на плечо грязный мешок и отправляясь до следующего «острова сокровищ». Из ближайших пятиэтажек наведываются таджики, забирая выброшенную мебель. Перед вывозом мусора на убитых «Жигулях» появляется армянин с сыном: собирают металлолом. Дед-пенсионер волочёт рамы для теплицы и фанеру для дачи. Старая бабушка всё ахает и не может привыкнуть к такому, разбирая фасонистые платья: «Вот все плохо живут, а выбрасывают-то, выбрасывают-то! Да мы после войны о таких вещах мечтали только, а сейчас на помойку, ведь новые!» Для своей собачки подбирает куски хлеба, встречаются и целые буханки, видно перележавшие в холодильнике. Тяжело вздыхая, бредёт она до своей квартиры, опираясь на самодельный батожок, в думах о болезнях и одиночестве да маленькой пенсии.
Выбрасывают и правда многое: двери и рамы после ремонта квартир, мягкую мебель, кухонные гарнитуры, посуду, одежду и обувь, детские коляски и вещи, старую бытовую технику. И ещё – книги. Ко всему я сдержан, проходя мимо, хотя моё деревенское нутро протестует, когда вижу стекло, доски, фанеру. Но книги…
В первый раз я был потрясён, когда увидел выброшенные Евангелие, молитвословы, недорогие иконочки. В кучу были свалены от руки переписанные последования богослужений, каноны и акафисты, помянники с именами людей, о которых кто-то молился. Набранная на печатной машинке Псалтирь. Всё это было из того советского времени, когда это переписывалось, передавалось, бережно хранилось. Было похоже на то, что умерла бабушка, а весь её нехитрый скарб просто выбросили.
В другой раз среди выброшенных книг оказался учебник русской истории 1911 г. под редакцией проф. С. Платонова. Вот ведь кто-то всё советское время хранил книгу, за которую могли посадить, а в наши дни «возрождения исторической памяти и национальной культуры» выбросили.
Выбрасывается техническая литература, медицинская, литературные журналы 90-х годов, школьные учебники. А как же не выбросить: квартиру сделали под евроремонт, мебель новую купили, а тут эта макулатура портит «дизайн» и лишнее место занимает. Кому это читать? Да и до чтения ли в наше время?
В помойной жиже разбросано собрание сочинений Гоголя. Почему-то именно классики очень много оказывается на свалке. Тех советских изданий, за которыми стояли в очередях и доставали по блату. Часто тома новенько похрустывают, когда открываешь их: десятка три лет простояли за стеклом в «стенках» и так ни разу не были открыты для чтения, вплоть до выброса. Вот Чехов Антон Палыч интеллигентно и скорбно взирает сквозь своё неизменное пенсне с обложки книги рассказов, втоптанной в нечистоты. По распахнутому развороту сборника стихов Есенина жирный и грязный отпечаток кроссовка, словно по душе и совести народной…
Подбираю из груды валяющихся книг репринт-издание дореволюционных «Правил светской жизни и этикета». Открываю наугад. «Вежливость есть плод хорошего воспитания и привычки обращаться с людьми благовоспитанными»; «Уметь слушать столь же необходимо, как и уметь говорить… Ничто не может быть более невежливым, как прерывать того, кто говорит»; «От большей части рюмок отказывайтесь и пейте лишь столько, чтобы постоянным отказом не обидеть хозяина»; «Надевать одновременно красное с зелёным или розовое с жёлтым значит нарушать все принципы вкуса»; «Гораздо лучше и приличнее вовсе не носить никаких драгоценностей, чем нацеплять на себя дешёвые подделки»; «Уважающая себя женщина никогда не должна придерживаться моды, которая шокирует скромность и стыдливость»; «Опрятная и приличная наружность почти всегда указывает на порядочность человека»; «Мы должны искренно, до самоотвержения любить нашу семью»; «Исправляйте недостатки вашего характера, они могут сделаться несчастием для всех окружающих вас»; «Избегайте всяких излишеств: они позорят человека и расстраивают здоровье»; «Любите искренно ваше отечество. Храбрость, так же как и любовь к отечеству, одна из величайших добродетелей гражданина. Любить отечество – это любить своих сограждан, это сочувствовать их горестям, это заботиться о народном благополучии».
Да уж, куда как не на помойку подобную книжку. Мракобесие да ересь!
А впрочем, не будем о грустном. Мы ведь возрождаемся, растёт национальное самосознание, вступаем в ВТО, строим «Москва-Сити», развиваем нанотехнологии. В ногу с современностью, товарищи-господа, не отставайте, бодрее и в ногу, в светлое нанобудущее!
Слушая
тишину
Компания семиклассников идёт по заснеженной аллее. Мальчишки толкают девочек в снег, те визжат, бросаются в ответ снежками. Всё это под весёлую заборную матерщину, в которой вроде и не слышно злобы.
– Машка, ах ты, шмара! – смеясь, кричит мальчишка Машке. Она, миловидная, прилично одетая, отвечает «непереводимой игрой слов». Мальчик добавляет ещё тот набор похабнейших выражений и эпитетов, который по отношению к девушке считается самым оскорбительным. Но никто не оскорбляется, ребята весело продолжают играть в снежки.
Встречь устало топает бабка с тяжёлой кошёлкой. Но и её не замечают, да и она не обращает внимания на матерящуюся ребятню. Я вдруг понимаю, что это не детское «дурак – сам дурак», а обыденный привычный стиль общения. Они так разговаривают и, кажется, весьма удивляются, когда им делают замечания. А что, собственно, такого? Так ведь все говорят. И в школе, и дома, и на улице. Ну, Марья Ивановна, конечно, в школе не выражается, но, рассказывают, дома всё же позволяет себе в сердцах.
Дети весёлой гурьбой скрываются за углом, тихнут шаги, мягкой воздушной волной накатывает тишина. Вот слышно стало, как тенькает синица и падает сухая веточка. Такая тишь, чистая, прозрачная, невесомая! Закрыв глаза, стою пару минут и слушаю благоуханное безмолвие предвесеннего парка. Пахнет тополиными почками и талым снегом. Может, я стареть начинаю: «А вот в наше время!»… Намолчать бы вот так мудрости и тишины впрок – червлёным старинным золотом, напиться ими вволю из пригоршней осенней задумчивой водой.
Курагино,
Красноярский край
Малая родина

Метет снежная поземка вдоль улицы. В густеющем сумраке деревня выглядит еще более нищетно и сиротно. Как будто и нет в мире более ничего, кроме этой убогой деревеньки со скосившимися заборами и черными проемами окон опустевших домов. Словно вокруг - одна бесконечная ледяная пустыня. Собачий взлай перебивается ветром, разносящим печной сиренево-сизый дым. Сугробы на крышах - как на новогодних открытках поры детства, где они пушистым ватным облаком лежат на скатах. В повечерии снег кажется напитавшим небесной холодной сини.
Далеким отзвуком дзинькающих колокольцев сквозь сувои и наметы памяти доносится детство. Его топотливыми пяточками исхожены здесь проселочные дороги и лесные тропки, избеганы луга за огородами и вымеряны лягушатники со стоялой водой, в которой с майской поры барахтался голопузый детский народец. Дождаться бы на своротке эту дивную тройку гривастых коней и укатить в его невесомо-воздушые дни и хрустальные ночи. Туда, где еще никто не умер и не случилось пока ни одной разлуки. Где ты, белобрысый и прыткий человечек, бегущий вскрай лужи сквозь облачко белоснежных бабочек-капустниц, для всех в радость и удивление.
И замерев в ожидании на колком, как вой протяжном ветру, вспоминаю те дни. Как в натопленном классе малокомплектной сельской школы учительница объясняет, как надо писать слово "родина": если речь идет о всей стране, то писать с большой буквы, а если о месте, где ты родился, то с маленькой. И неровным, неокрепшим почерком мы старательно выводим букву за буквой слово "родина".
 "А-а-а!.."
- доносит эхом-выдохом со снежных полей Подмосковья сорванные голоса
мальчишек сибирских дивизий, безвестно гибнущих под шквальным огнем. И
эта первая в алфавите буква становится последним криком боли, единящей
последние такие важные слова: "Ура!", "Родина!", "Ма-ма-а-а!" Сгребая в
слепой предсмертной муке куски мерзлой земли, разорванной от бомбежек,
омоченной слезами и кровью, всего сильнее им хотелось жить. Хотелось
вернуться какими угодно на свою малую сирую родину к своим терпеливым и
скорбным матерям. Хоть умереть по-человечьи на людских руках. Но умирать
им пришлось среди ужаса и безумия войны, неутоляемой боли, вдали от
дома в снегах и болотах, став навеки "геройски погибшими" и "без вести
пропавшими"…
"А-а-а!.."
- доносит эхом-выдохом со снежных полей Подмосковья сорванные голоса
мальчишек сибирских дивизий, безвестно гибнущих под шквальным огнем. И
эта первая в алфавите буква становится последним криком боли, единящей
последние такие важные слова: "Ура!", "Родина!", "Ма-ма-а-а!" Сгребая в
слепой предсмертной муке куски мерзлой земли, разорванной от бомбежек,
омоченной слезами и кровью, всего сильнее им хотелось жить. Хотелось
вернуться какими угодно на свою малую сирую родину к своим терпеливым и
скорбным матерям. Хоть умереть по-человечьи на людских руках. Но умирать
им пришлось среди ужаса и безумия войны, неутоляемой боли, вдали от
дома в снегах и болотах, став навеки "геройски погибшими" и "без вести
пропавшими"…Летом, пройдя сквозь заросли высокой и раскидистой крапивы, я с недоумением и болью долго бродил по фундаменту своей школы. Лишь по размерам разных квадратов я угадывал, что вот здесь был кабинет математики, а напротив и чуть наискосок трудовая, рядом с которой - спортзал. Осыпалась под ногами сохлая глина и известка, хрустела дранка. Когда-то еще до строительства школы невдалеке от нее была церковь. Но ее порушили давно, не осталось даже фундамента. Школу закрыли по причине малокомплектности. Приехавшая комиссия из РОНО походила-почиркала в бумажках, школьное имущество стащили на полянку и стали сжигать: старые учебники и книги, парты… Была быть может среди тех парт и та, за которой сидел я старательным первоклашкой и писал такое важное слово - "родина".
Довелось мне как-то быть в старинном городке Тверь, от которой до Москвы на ходкой машинке несколько часов езды. "Как народ здесь живет?" "Да дыра-дырой, зарплаты низкие, надо в Москву подаваться". А в Москве - грохочущая утроба метро глотает и давится этими миллионами приехавших за деньгами, карьерой и счастьем. За место под солнцем в густеющем людовороте надо давить и идти по горбам: если не ты, то тебя! А где оно - счастье? Ау! Сидит на скамейке с таджиками русская девочка-наркоманка, грязная и опустившаяся, и жадно цедит сигаретку из тонких дрожащих пальцев. Зябко ей на сквозняке в легкой замызганной курточке. Вбирая голову в плечи, она затравленно улыбается в ответ на полу-русскую речь кроваво-напомаженным ртом. И лишь в глазах, доцветающих вылинявшими васильками на бледном лице, тоскливый страх и обреченность.
 И
куда ни иди, всюду - это отречение от своей земли, на которой старятся
родительские, сиротеющие без детей дома и в которой покоятся кости
предков родов, ныне не помнящих своего родства. Как давно это было:
"Всяк своим местом хвалится", "Худая та птица, которая гнездо свое
марает", "Любит и нищий свое хламовище". Малая родина, нареченная дырой,
будет в человеке всю жизнь его как родинка на теле. Везде он будет
носить и всюду приносить ее убогость и неопрятность. Так что на берегах
солнечной Анталии по-прежнему будут удивляться иностранцы нашему хамству
и дикости. Бежали мы из дыры, да на своем горбу донесли ее во все
уголки земли. Родина малая нас такими сделала или мы ее такой? И как
теперь быть-то? Может письмо написать Путину… или деду-Морозу? Мы-то не
виноваты, это не мы, это нас испохабили…
И
куда ни иди, всюду - это отречение от своей земли, на которой старятся
родительские, сиротеющие без детей дома и в которой покоятся кости
предков родов, ныне не помнящих своего родства. Как давно это было:
"Всяк своим местом хвалится", "Худая та птица, которая гнездо свое
марает", "Любит и нищий свое хламовище". Малая родина, нареченная дырой,
будет в человеке всю жизнь его как родинка на теле. Везде он будет
носить и всюду приносить ее убогость и неопрятность. Так что на берегах
солнечной Анталии по-прежнему будут удивляться иностранцы нашему хамству
и дикости. Бежали мы из дыры, да на своем горбу донесли ее во все
уголки земли. Родина малая нас такими сделала или мы ее такой? И как
теперь быть-то? Может письмо написать Путину… или деду-Морозу? Мы-то не
виноваты, это не мы, это нас испохабили…Оставление занятых такой непомерной ценой рубежей обесценивает и обессмысливает жертву и подвиг поколений, подъявших страдания и смерть "ради будущего благодарных потомков". Мать, вынесшая скорби и тяготы материнства, неутешна, видя, что чада стали пьяницами и ворами. Если уж малая родина, с которой человека связывает столько кровных и родовых нитей, не дорога и презираема, то как же будет дорога вся эта страна?..
А все же она прекрасна - сквозь всю свою неуютицу и неприглядность. Потянет вешним ветерком, сменчивым воробьиным вспорхом обдающим лицо - и осядут сугробы, и заторопится хрустально-искристая капель. На дорогах появятся первые талицы. Потемнеет березовый лес на сгорьях, на южных скатах которых выступит обталая земля, когда в низинах еще крепким настом держится тяжелеющий снег, слепящий в полуденной ясни. И легко вздохнется росхмелью вешнего воздуха, и руки потянутся к труду, а душа к песне.
Этой раздольной дымчатой далью, и лесами, вековой ратью стоящих в дозоре, и светлоструйными реками, несущими опавшие листья на север, и легшими в зеленый пар хлебными полями, и могилами предков-пахарей свидетельствует родная земля, что судил нам Господь край прекрасный и щедрый, в пору сил и трудолюбия народа для его изобилия и радости. Не вина и беда земли, что хозяин ее искривел и изгнил душой, занявшись грабежом в собственном доме, что присосались к ней паразитами люди, выгрызая ее недра. Рви и хапай, один раз живем! Ни счастливее, ни человечнее от этого мы не стали.
 И
с горечью приходится признать, что не место, не малая родина стала
дырой, а душа человека, в которую утекла и мудрость народа, и его вера, и
обычаи, и заветы, и трудолюбие. Бессмысленно бежать от себя и строить
планы по борьбе с разрухой в клозетах, когда она царит в головах.
И
с горечью приходится признать, что не место, не малая родина стала
дырой, а душа человека, в которую утекла и мудрость народа, и его вера, и
обычаи, и заветы, и трудолюбие. Бессмысленно бежать от себя и строить
планы по борьбе с разрухой в клозетах, когда она царит в головах. Покаяние в своем изначальном смысле греческого слова "метанойя" означает перемену ума, образа мыслей. В еще более глубинном значении - возвращение с ошибочного пути на правую стезю, выход из заблуждения. Становясь добролюбивыми, воздержанными, домовитыми и благожелательными, мы начинаем это возвращение в страну отцов. Только внутреннее перерождение может привести к внешним изменениям, но не наоборот. Это задача не на час и на год, а на целые поколения, но задача творческая и интересная.
Выбираясь из ямы плотских пристрастий к вершине человеческого духа, душа обретает радость свободы от жадности и зависти, жестокости и себялюбия, ненависти и злобы. И путь подобного покаяния единственный, ведущий к счастью. Любовь к малой родине, к родной земле, с которой нас неразрывно связывают могилы предков, расцветает не на солоде квасного патриотизма, а на приобщении к этой земле через созидательный труд во благо живущих на ней.
Диакон Олег Курзаков
Чего не должны стыдиться верующие?
Однажды мне довелось сделать одно из открытий, которыми полна
жизнь того, кто только перешагнул порог Церкви и остался в Ней, того,
кого обычно называют неофитом. Я уже был крещен, легкие привыкали к
иному воздуху, сотканному из аромата ладана, восковых свечей, живых
цветов, украшавших праздничную икону крещения. Во мне господствовало
непередаваемое ощущение другой, совершенно новой жизни, которой я не мог
нажиться. Вокруг было вроде все то же, но что-то произошло с очами
сердца. Так бывает в пору юношеской влюбленности. Серая унылая
действительность преобразилась в пространство нового бытия.

Было лишь тяжело от того, что в прежнем круге общения никто не мог разделить этой радости, хоть как-то адекватно ее понять. Вдруг пролегла граница, не исканная и не желанная, между мной и теми людьми, с которыми я общался, работал, дружил. Тогда я еще не знал, что без подвига любви, терпения и смирения эта граница будет полем затяжной войны, неприязни и отчуждения. Мне было больно от того, что самое ценное, что я обрел, вера, другим казалось глупостью и блажью, достойной насмешки, уделом старух, а не молодости. И как вообще можно к этому серьезно относиться? Посты, молитвы, запреты и ограничения…
Вера же должна быть в сердце, живи, как живешь, без фанатизма, это твое личное дело, которое внешне ты не должен демонстрировать. Других задевало то, что их жизнь с моей стороны теперь считалась какой-то неправильной. И что оказывается, многое является грехом. Я же, как и всякий неофит, был нетерпелив и заносчив. Все это заставляло таиться в своей вере, стараться не показывать ее остальным, чтобы не давать повода насмешкам, пересудам, пустым разговорам. Я не думаю, что те люди были сознательно враждебны христианству. Скорее срабатывал коллективный инстинкт, когда появляется единичное инакомыслие, странное и непонятное. К тому же и знания о православии ограничивались анекдотами про попов и тем, как красить яйца на Пасху.
Проезжая в автобусе мимо того храма, в который стал ходить, я не решался перекреститься, словно бы я делал что-то непозволительное или не принятое, и этим бы выделялся. Зачем казалось бы это нужно? С богословской точки зрения крестное знамение есть краткое бессловное исповедание Символа веры в Троицу и Христа, Его страдания ради людей и победу крестом ада и смерти: "Се бо прииде крестом радость всему миру!". Это духовное оружие, защита от темной силы, призывание благодати Божией и освящение человека. А при виде храма или иной святыни - выражение ее почитания. У св. Иоанна Златоуста есть такие слова: "Как венец, будем носить крест Христов... Крест есть знамение нашего спасения, общей свободы и милосердия нашего Владыки.
Потому, когда знаменуешься крестом, то представляй все значение креста, погашай гнев и все прочие страсти... Итак, не стыдись столь великого блага, да не постыдит и тебя Христос, когда придет во славе Своей, и когда это знамение явится пред Ним, сияя светлее самых лучей солнечных." Св. Кирилл Иерусалимский пишет о том же: "Не стыдимся исповедовать Распятого; с дерзновением да будет налагаема перстами печать, то есть крест, на челе и на всем: на вкушаемом хлебе, на чашах с питием, на входах и исходах, перед сном, когда ложимся, и когда встаем, бываем в пути и покоимся… Это - великое предохранение, доставляемое бедным даром, немощным - без труда, потому что от Бога благодать сия, знамение верных, страх демонам".
Мне тогда словно не хватало смелости перед лицом неверующих признаться в своей новой великой любви. И это чувство раздвоенности теснило сердце. Иногда так бывает с молодыми священниками, которые за стенами храма прячут в сумку рясу от греха подальше и стараются быть как все, но печать священства настолько явна всем, что с этого и начинается соблазн для других. И вот как-то, проезжая мимо храма, я все же решился осенить себя крестным знамением. Автобус подъезжал все ближе, а рука будто свинцом налилась. И с усилием поднимая ее, я коснулся перстами лба…
Дальше произошло то, что на языке православной аскетики называется касание сердца благодати. В то же мгновение словно тягчайшие каменные глыбы отпали от всего тела, и стало невыразимо легко и радостно. Рядом я почувствовал Того, Кто даровал эту радость и Чья любовь вымывала душу от страхов и сомнений. Это было одно из самых радостных крестных знамений в моей жизни! В тот момент я вдруг увидел всю свою неправоту "быть как все". Я почувствовал, что мне нечего стыдиться, как не стыдится ребенок, когда приветствует свою мать, что это мой храм и моя непостыдная вера. Господь говорит в Евангелии: "Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и святых Ангелов". (Лк. 9, 26).
Мне нечего и некого теперь было бояться и страшиться, кроме отпадения от Христа: "Госпо?дь просве?щение мое? и Спаси?тель мо?й, кого? убою?ся? Госпо?дь Защи?титель живота? моего?, от кого? устрашу?ся?" (Пс.26, 1). Это и было моим открытием. Оказывается, мало сделать выбор, нужно еще иметь мужество подтверждать его. Каждодневно, не надрывая глотку, а только живя по своей вере и совести, не унижая и не осуждая других, но и не стремясь к показушничеству и ложному внешнему благочестию. Если будет превозношение и гордость, то и благочестивая внешность, и крестное знамение на людях будут вводить в соблазн и порождать неприязненность. Страсти с их грехами всегда или видны, или люди их чувствуют. И тогда длинные юбки и темная одежда будут обличать, потому что любовь не заменить ничем.
Наверное, мне бы не стоило писать о том далеком и вроде пустяшном случае из своей жизни, если бы спустя годы не появилось чувство того, что эта ложная стеснительность свойственна иногда очень многим верующим. Как-то не принято осенять себя крестным знамением при виде храма или брать благословение у священника на улице. Видя такого же верующего, мы не ощущаем его сродным себе, своим в окружении неверов. Разделенность и стеснительность в благоразумном проявлении своей веры производит впечатление слабости и растерянности. Сидеть в горнице "страха ради иудейска" после Пятидесятницы - значит держать под спудом тот свет, который должен быть явлен миру, зарывать талант, данный для купли и преумножения и не слушаться повеления Господа, сказавшего идти ко всем народам и нести Его учение и благодать.
Ошибочно полагать, что наша вера - это наше личное дело. Это еще и дело Церкви, в которой мы не только спасаемые, но и спасающие силой Христовой, не только просвещаемые, но и просвещающие других Его светом, являясь соработниками Бога. Христиане призваны свидетельствовать миру о Христе своей верой и жизнью по этой вере. У защитников христианской веры в первые века в ответ на гонения одним из основных аргументов был пример благочестивой жизни многих христиан: "У них находится целомудрие, выполняется воздержание, соблюдается единобрачие, сохраняется чистота, истребляется неправда, искореняется грех, уважается справедливость, почитается закон, совершается богопочтение" (Святитель Феофил Антиохийский). Кого же стыдишься тогда в своем добром уповании?
Мы иногда ощущаем себя чужими и пришлыми среди светского общества. Но и страна наша, и культура ее, и письменность, и язык были созданы во многом верующими. Светскость, основным содержанием которой является сегодня атеизм, есть явление привнесенное и ненормальное по отношению к доминанте нашей культуры и мировоззрения. Десятки тысяч храмов не сами позакрывались от недостатка верующих и священства в советское время. Нужно честно признать, что насилием эти храмы были разрушены, насилием было запрещено давать религиозное образование, насилием была изъята всякая религиозная литература и возможность знать о христианстве, и насилием же внедрено атеистическое воспитание.
Систематически и тотально на протяжении семи десятилетий уничтожалась православная вера на всей территории страны и насаждалась советская идеология. У большинства современных светских людей в нашей стране никогда не было свободного выбора между верой и неверием: религия - это пережиток и мракобесие. Так учила партия, так воспитывали в школе, так писали газеты! Диву даешься от количества бреда и ахинеи, которые и составляют большинство знаний о православии у людей нецерковных. И ситуация искусственного секуляризма на сегодняшний день порождает неразрешимые противоречия для самого общества, когда основы культуры христианские, а цели - земные и потребительские.
Наша Церковь выжила, выстояла благодаря подвигу новомучеников и исповедников. Их страдания до крови и смерти дали нам шанс снова возродиться, восстановить храмы, научиться и научить вере во Христа. Неужели нам и теперь стыдиться? Не должны ли испытывать стыд те, кто разрушал и притеснял или молчаливо соглашался на это. Нам же почему-то должно быть стыдно за наших батюшек, которые, как утверждают светские СМИ, поголовно пьяницы и сребролюбцы, стыдно за якобы стяжательную Церковь, которая пытается вернуть свои немногие сохранившиеся святыни, насилием отобранные у Нее, стыдно за "клерикализацию" - попытку жить в этой стране по своей вере и участвовать в ее жизни. Нам предлагают условия гетто и резервации: веруйте, только никуда не суйтесь.
Все время приходится оправдываться перед неверующими: мол, и батюшки бывают разными, и Церковь переживает не лучшие времена. И тем самым мы даем повод для еще более наглого и развязного поведения со стороны неверов. Это становится модой, на этом делают имя такие люди как А. Невзоров, М. Прохоров, М. Задорнов и иже с ними. Верующий должен быть способен защищать свою веру, святыни, доброе имя Церкви и ее чад, "заграждая уста" сплетникам не криком, проклятием, угрозой или кулаком, а словом правды. В начале 1990-х годов над Православной Церковью не глумились из сектантов разве что глухонемые. Но когда о. Олег Стеняев, о. Дмитрий Смирнов, протодиакон Андрей Кураев, убиенный о. Даниил Сысоев и другие представители Церкви стали принимать участие в публичных диспутах, то их велеречивые оппоненты сразу поблекли и посыпались мелким горохом. Короли оказались "голыми".
Моим собственным малым опытом стал следующий случай. Уже учась в Семинарии и будучи знаком со многими священниками, видя их личную жизнь, мне от людей светских часто доводилось слышать рассказы о пьяных попах на дорогих машинах. Но среди моих знакомых батюшек таковых не обреталось, потому как они были семейными и многодетными, как и большинство священников, да еще под присмотром заботливых матушек. То есть условия для роскоши и пьянства прямо не подходящие. Поэтому приходилось отговариваться стандартно: сам не знаю таких, но все может быть. Когда же мне выдали совсем невероятную историю про пьяного батюшку на дорогущей иномарке с девицей легкого поведения, который при этом еще курил и матерился, то возникло ощущение того, что "ну все, достали!". "Назовите, пожалуйста, имя и фамилию данного батюшки, марку его машины, когда это произошло и кто свидетели?" - вопросил я. "Да-а-а … я не знаю…", - прозвучал растерянный ответ. "Ну тогда ваша информация имеет статус сплетни, а разносить сплетни для порядочного человека есть дело постыдное". После мне приходилось еще несколько раз задавать подобный вопрос, и каждый раз в ответ звучало невнятное "не знаю"…
Александр Исаевич Солженицын писал, что после лагеря у него, как и у многих бывших заключенных, долго сохранялась привычка ходить с руками за спиной. После 20 лет жизни Церкви "на свободе" подобные привычки выглядят скорее смешными странностями. Если верующие могут и имеют право свободно выражать свою веру, что многим не всегда нравится, это не повод стыдится и уходить в изоляцию. Скорее это повод для большей добродетельной жизни по заповедям, чтобы отклонить всякие наветы, дабы не про нас были слова апостола Павла: "Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников" (Рим. 2:24). Не стоит стыдиться в проявлении и защите своей веры, но стоит при этом стремиться к любви и разумению. Осеняя себя крестным знамением, мы свидетельствуем другим, что в нас победил Христос, а не князь мира сего. И эта победа самая славнейшая и величайшая на земле, победа справедливости над подлостью, любви над злом, веры над неверием, Истины над ложью.
Диакон Олег Курзаков

Было лишь тяжело от того, что в прежнем круге общения никто не мог разделить этой радости, хоть как-то адекватно ее понять. Вдруг пролегла граница, не исканная и не желанная, между мной и теми людьми, с которыми я общался, работал, дружил. Тогда я еще не знал, что без подвига любви, терпения и смирения эта граница будет полем затяжной войны, неприязни и отчуждения. Мне было больно от того, что самое ценное, что я обрел, вера, другим казалось глупостью и блажью, достойной насмешки, уделом старух, а не молодости. И как вообще можно к этому серьезно относиться? Посты, молитвы, запреты и ограничения…
Вера же должна быть в сердце, живи, как живешь, без фанатизма, это твое личное дело, которое внешне ты не должен демонстрировать. Других задевало то, что их жизнь с моей стороны теперь считалась какой-то неправильной. И что оказывается, многое является грехом. Я же, как и всякий неофит, был нетерпелив и заносчив. Все это заставляло таиться в своей вере, стараться не показывать ее остальным, чтобы не давать повода насмешкам, пересудам, пустым разговорам. Я не думаю, что те люди были сознательно враждебны христианству. Скорее срабатывал коллективный инстинкт, когда появляется единичное инакомыслие, странное и непонятное. К тому же и знания о православии ограничивались анекдотами про попов и тем, как красить яйца на Пасху.
Проезжая в автобусе мимо того храма, в который стал ходить, я не решался перекреститься, словно бы я делал что-то непозволительное или не принятое, и этим бы выделялся. Зачем казалось бы это нужно? С богословской точки зрения крестное знамение есть краткое бессловное исповедание Символа веры в Троицу и Христа, Его страдания ради людей и победу крестом ада и смерти: "Се бо прииде крестом радость всему миру!". Это духовное оружие, защита от темной силы, призывание благодати Божией и освящение человека. А при виде храма или иной святыни - выражение ее почитания. У св. Иоанна Златоуста есть такие слова: "Как венец, будем носить крест Христов... Крест есть знамение нашего спасения, общей свободы и милосердия нашего Владыки.
Потому, когда знаменуешься крестом, то представляй все значение креста, погашай гнев и все прочие страсти... Итак, не стыдись столь великого блага, да не постыдит и тебя Христос, когда придет во славе Своей, и когда это знамение явится пред Ним, сияя светлее самых лучей солнечных." Св. Кирилл Иерусалимский пишет о том же: "Не стыдимся исповедовать Распятого; с дерзновением да будет налагаема перстами печать, то есть крест, на челе и на всем: на вкушаемом хлебе, на чашах с питием, на входах и исходах, перед сном, когда ложимся, и когда встаем, бываем в пути и покоимся… Это - великое предохранение, доставляемое бедным даром, немощным - без труда, потому что от Бога благодать сия, знамение верных, страх демонам".
Мне тогда словно не хватало смелости перед лицом неверующих признаться в своей новой великой любви. И это чувство раздвоенности теснило сердце. Иногда так бывает с молодыми священниками, которые за стенами храма прячут в сумку рясу от греха подальше и стараются быть как все, но печать священства настолько явна всем, что с этого и начинается соблазн для других. И вот как-то, проезжая мимо храма, я все же решился осенить себя крестным знамением. Автобус подъезжал все ближе, а рука будто свинцом налилась. И с усилием поднимая ее, я коснулся перстами лба…
Дальше произошло то, что на языке православной аскетики называется касание сердца благодати. В то же мгновение словно тягчайшие каменные глыбы отпали от всего тела, и стало невыразимо легко и радостно. Рядом я почувствовал Того, Кто даровал эту радость и Чья любовь вымывала душу от страхов и сомнений. Это было одно из самых радостных крестных знамений в моей жизни! В тот момент я вдруг увидел всю свою неправоту "быть как все". Я почувствовал, что мне нечего стыдиться, как не стыдится ребенок, когда приветствует свою мать, что это мой храм и моя непостыдная вера. Господь говорит в Евангелии: "Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и святых Ангелов". (Лк. 9, 26).
Мне нечего и некого теперь было бояться и страшиться, кроме отпадения от Христа: "Госпо?дь просве?щение мое? и Спаси?тель мо?й, кого? убою?ся? Госпо?дь Защи?титель живота? моего?, от кого? устрашу?ся?" (Пс.26, 1). Это и было моим открытием. Оказывается, мало сделать выбор, нужно еще иметь мужество подтверждать его. Каждодневно, не надрывая глотку, а только живя по своей вере и совести, не унижая и не осуждая других, но и не стремясь к показушничеству и ложному внешнему благочестию. Если будет превозношение и гордость, то и благочестивая внешность, и крестное знамение на людях будут вводить в соблазн и порождать неприязненность. Страсти с их грехами всегда или видны, или люди их чувствуют. И тогда длинные юбки и темная одежда будут обличать, потому что любовь не заменить ничем.
Наверное, мне бы не стоило писать о том далеком и вроде пустяшном случае из своей жизни, если бы спустя годы не появилось чувство того, что эта ложная стеснительность свойственна иногда очень многим верующим. Как-то не принято осенять себя крестным знамением при виде храма или брать благословение у священника на улице. Видя такого же верующего, мы не ощущаем его сродным себе, своим в окружении неверов. Разделенность и стеснительность в благоразумном проявлении своей веры производит впечатление слабости и растерянности. Сидеть в горнице "страха ради иудейска" после Пятидесятницы - значит держать под спудом тот свет, который должен быть явлен миру, зарывать талант, данный для купли и преумножения и не слушаться повеления Господа, сказавшего идти ко всем народам и нести Его учение и благодать.
Ошибочно полагать, что наша вера - это наше личное дело. Это еще и дело Церкви, в которой мы не только спасаемые, но и спасающие силой Христовой, не только просвещаемые, но и просвещающие других Его светом, являясь соработниками Бога. Христиане призваны свидетельствовать миру о Христе своей верой и жизнью по этой вере. У защитников христианской веры в первые века в ответ на гонения одним из основных аргументов был пример благочестивой жизни многих христиан: "У них находится целомудрие, выполняется воздержание, соблюдается единобрачие, сохраняется чистота, истребляется неправда, искореняется грех, уважается справедливость, почитается закон, совершается богопочтение" (Святитель Феофил Антиохийский). Кого же стыдишься тогда в своем добром уповании?
Мы иногда ощущаем себя чужими и пришлыми среди светского общества. Но и страна наша, и культура ее, и письменность, и язык были созданы во многом верующими. Светскость, основным содержанием которой является сегодня атеизм, есть явление привнесенное и ненормальное по отношению к доминанте нашей культуры и мировоззрения. Десятки тысяч храмов не сами позакрывались от недостатка верующих и священства в советское время. Нужно честно признать, что насилием эти храмы были разрушены, насилием было запрещено давать религиозное образование, насилием была изъята всякая религиозная литература и возможность знать о христианстве, и насилием же внедрено атеистическое воспитание.
Систематически и тотально на протяжении семи десятилетий уничтожалась православная вера на всей территории страны и насаждалась советская идеология. У большинства современных светских людей в нашей стране никогда не было свободного выбора между верой и неверием: религия - это пережиток и мракобесие. Так учила партия, так воспитывали в школе, так писали газеты! Диву даешься от количества бреда и ахинеи, которые и составляют большинство знаний о православии у людей нецерковных. И ситуация искусственного секуляризма на сегодняшний день порождает неразрешимые противоречия для самого общества, когда основы культуры христианские, а цели - земные и потребительские.
Наша Церковь выжила, выстояла благодаря подвигу новомучеников и исповедников. Их страдания до крови и смерти дали нам шанс снова возродиться, восстановить храмы, научиться и научить вере во Христа. Неужели нам и теперь стыдиться? Не должны ли испытывать стыд те, кто разрушал и притеснял или молчаливо соглашался на это. Нам же почему-то должно быть стыдно за наших батюшек, которые, как утверждают светские СМИ, поголовно пьяницы и сребролюбцы, стыдно за якобы стяжательную Церковь, которая пытается вернуть свои немногие сохранившиеся святыни, насилием отобранные у Нее, стыдно за "клерикализацию" - попытку жить в этой стране по своей вере и участвовать в ее жизни. Нам предлагают условия гетто и резервации: веруйте, только никуда не суйтесь.
Все время приходится оправдываться перед неверующими: мол, и батюшки бывают разными, и Церковь переживает не лучшие времена. И тем самым мы даем повод для еще более наглого и развязного поведения со стороны неверов. Это становится модой, на этом делают имя такие люди как А. Невзоров, М. Прохоров, М. Задорнов и иже с ними. Верующий должен быть способен защищать свою веру, святыни, доброе имя Церкви и ее чад, "заграждая уста" сплетникам не криком, проклятием, угрозой или кулаком, а словом правды. В начале 1990-х годов над Православной Церковью не глумились из сектантов разве что глухонемые. Но когда о. Олег Стеняев, о. Дмитрий Смирнов, протодиакон Андрей Кураев, убиенный о. Даниил Сысоев и другие представители Церкви стали принимать участие в публичных диспутах, то их велеречивые оппоненты сразу поблекли и посыпались мелким горохом. Короли оказались "голыми".
Моим собственным малым опытом стал следующий случай. Уже учась в Семинарии и будучи знаком со многими священниками, видя их личную жизнь, мне от людей светских часто доводилось слышать рассказы о пьяных попах на дорогих машинах. Но среди моих знакомых батюшек таковых не обреталось, потому как они были семейными и многодетными, как и большинство священников, да еще под присмотром заботливых матушек. То есть условия для роскоши и пьянства прямо не подходящие. Поэтому приходилось отговариваться стандартно: сам не знаю таких, но все может быть. Когда же мне выдали совсем невероятную историю про пьяного батюшку на дорогущей иномарке с девицей легкого поведения, который при этом еще курил и матерился, то возникло ощущение того, что "ну все, достали!". "Назовите, пожалуйста, имя и фамилию данного батюшки, марку его машины, когда это произошло и кто свидетели?" - вопросил я. "Да-а-а … я не знаю…", - прозвучал растерянный ответ. "Ну тогда ваша информация имеет статус сплетни, а разносить сплетни для порядочного человека есть дело постыдное". После мне приходилось еще несколько раз задавать подобный вопрос, и каждый раз в ответ звучало невнятное "не знаю"…
Александр Исаевич Солженицын писал, что после лагеря у него, как и у многих бывших заключенных, долго сохранялась привычка ходить с руками за спиной. После 20 лет жизни Церкви "на свободе" подобные привычки выглядят скорее смешными странностями. Если верующие могут и имеют право свободно выражать свою веру, что многим не всегда нравится, это не повод стыдится и уходить в изоляцию. Скорее это повод для большей добродетельной жизни по заповедям, чтобы отклонить всякие наветы, дабы не про нас были слова апостола Павла: "Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников" (Рим. 2:24). Не стоит стыдиться в проявлении и защите своей веры, но стоит при этом стремиться к любви и разумению. Осеняя себя крестным знамением, мы свидетельствуем другим, что в нас победил Христос, а не князь мира сего. И эта победа самая славнейшая и величайшая на земле, победа справедливости над подлостью, любви над злом, веры над неверием, Истины над ложью.
Диакон Олег Курзаков
Земля осенних ветров
 Одним
из самых ярких воспоминаний детства для меня остался вид вспаханного
поля: босые ноги зябнут в пахоте, птицы кружат над ней, все в разливе
света вешнего солнышка, в трепете сменчивого, порывистого ветерка. Земля
во всей своей силе готова принять семенное зерно. Все исполнено жизни,
радостное волнение и непокой охватывают детскую душу.
Одним
из самых ярких воспоминаний детства для меня остался вид вспаханного
поля: босые ноги зябнут в пахоте, птицы кружат над ней, все в разливе
света вешнего солнышка, в трепете сменчивого, порывистого ветерка. Земля
во всей своей силе готова принять семенное зерно. Все исполнено жизни,
радостное волнение и непокой охватывают детскую душу.Родиться и вырасти мне довелось в деревне Тагашет. Всего-то в ней три улицы: Трудовая, Береговая, да Зеленая (выстроенная на болотистой луговине уже в Советское время) - это типично советские названия пришли на смену просторечным "Теребиловка" да "Лягушино", была еще улица Миллионка, сгоревшая в летний сухостой 20-х годов. Первые дома поселенцы строили вдоль речки Тагашетки, чуть ниже впадающей в илистую Шушь (местные произносят ее название как Сушь), которая берет начало в тайге выше Нижней Быстрой и уже за Шалоболино вбегает в Тубу. Потому у ней бывает два паводка: первый в мае и второй в июне, когда в верховьях стаивает снег в тайге и идет коренная рыжая от глинистой взвеси вода. На всем извилистом течении ее множество стариц и небольших болот, оставшихся от прежнего русла, да выпасные луга. Местность вокруг от луговой переходит в гористую, с березовыми светлыми лесами и полями на покатых взгорьях.
 Невеликая
деревенька. В истории района ничем особо знаменитым не запечатлелась. В
1990-х в ней жило едва ли с 300 человек, а сейчас осталось чуть более
ста. Заброшенная, пьющая, вымирающая, она уходит в трясину безвременья.
Как чумной заразой пришла наркомания, благо за огородами в изобилии
растет паданкой конопля.
Невеликая
деревенька. В истории района ничем особо знаменитым не запечатлелась. В
1990-х в ней жило едва ли с 300 человек, а сейчас осталось чуть более
ста. Заброшенная, пьющая, вымирающая, она уходит в трясину безвременья.
Как чумной заразой пришла наркомания, благо за огородами в изобилии
растет паданкой конопля. Не обрабатываемые поля затягивает лесом, размывает проселочные дороги. На слом и растаскивание, тихое и деловое деревенское воровство с участием заезжих умельцев пошли совхозные телятники и коровники, гараж, склады и сушилка. Разобрали до фундамента клуб, магазин, школу, закрылась почта. Гнилыми и выпавшими зубами смотрятся по улице разбираемые жителями соседские брошенные дома. Нет работы, нет перспектив. Перспективы роста остались лишь у деревенского кладбища. Говорят, сегодня в России через каждый день-два исчезает по поселению. Еще говорят, что деревня отжила свое, ей осталось лишь умереть в безвестии и тихом пьянстве, похожем на упорное медленное самоубийство. Не выгодно, вроде как, землю пахать, хозяйство держать, средств нету, сил и возможностей, государство к тому же такое-сякое! Вот ежели да кабы, тогда может чего и вышло, а так - пропади оно пропадом!
 Разные
народы жили на тагашетских землях. Отроги восточных Саян, березолесое
раздольное подтаежье с обилием речек, пахотной земли и выпасных лугов
привлекали издревне. Земля здесь добрая, на пару штыков черный перегной,
не таежный тощий суглинок. Были и древние тагарцы, видимо занимавшиеся
мотыжным земледелием, чьи родовые курганы сохранились у подножия горы
Бесь, и кеты - одни из древнейших палеоазиатских народов, ныне почти
вымерший. О том говорят местные гидронимы: речка Тагашетка, а за два
десятка километров от нее речка Инашетка (Шет - по-кетски "вода"). Были и
енисейские кыргызы: такие топонимы как Тигень, Бесь, Шушь, имеют
хакасское происхождение, к тому же сохранились курганы уже
средневекового времени с круглой каменной оградой. При них появилось
плужное земледелие (в запасниках Минусинского музея хранится сошник
средних веков китайского производства, найденный в окрестностях
деревни).
Разные
народы жили на тагашетских землях. Отроги восточных Саян, березолесое
раздольное подтаежье с обилием речек, пахотной земли и выпасных лугов
привлекали издревне. Земля здесь добрая, на пару штыков черный перегной,
не таежный тощий суглинок. Были и древние тагарцы, видимо занимавшиеся
мотыжным земледелием, чьи родовые курганы сохранились у подножия горы
Бесь, и кеты - одни из древнейших палеоазиатских народов, ныне почти
вымерший. О том говорят местные гидронимы: речка Тагашетка, а за два
десятка километров от нее речка Инашетка (Шет - по-кетски "вода"). Были и
енисейские кыргызы: такие топонимы как Тигень, Бесь, Шушь, имеют
хакасское происхождение, к тому же сохранились курганы уже
средневекового времени с круглой каменной оградой. При них появилось
плужное земледелие (в запасниках Минусинского музея хранится сошник
средних веков китайского производства, найденный в окрестностях
деревни). Трудно сказать, когда именно было основано Казано-Богородское (так называлась деревня до 1930-х годов в честь Казанской иконы Божьей матери, хотя и современное название встречается в дореволюционных документах), всего вероятнее в веке 19-м, как и окружающие деревеньки. Здесь хорошо росла рожь, пшеница хуже, из-за слабой клейковины хлеб выходил солоделым, поэтому выменивали в Алексеевке и других деревнях степной части уезда на более хорошую. О том времени теперь никто почти ничего не помнит и не знает. Коренных старожил не осталось, коллективизация, репрессии, война разбили в щепу старые роды. Многие приехали в Тагашет из окрестных разоренных в хрущевское время деревень, в это же время молодежь любыми способами уезжала из колхоза в город.
В начале 1990-х несколько семей приехало из Тувы, когда там вырезалось русское население, кто-то приехал из ближайших деревень по "воле бродяжьей судьбы" в эти годы. Когда стал разваливаться совхоз, и закрыли среднюю школу, кто мог, потянулся из деревни по родственникам в другие места. Остались семьи старшего поколения, которым срываться с обжитого места и обживать новое уже не в силу, да и жизнь здесь прожита. Дети их в основном где-то отучились и устроились. Те, кто остался из молодежи, в основном пьет, трудом и хозяйством ограничиваясь самым минимальным. Тех, кого можно назвать коренными тагашетцами, чьи предки жили здесь испокон, осталось совсем немного.
 |
 |
 |
 |

Если подняться на огорье перед деревней, то можно увидеть то самое перспективное кладбище. В глубине, за оградками, где, кажется, растет лишь березовый лес, при внимательном взгляде можно увидеть чуть заметные холмики. Это могилы русских пахарей. От них не осталось ни имен, ни крестов. Было это давно, еще в позапрошлом веке. Мужики Вятчины и Перми, Мордовии, западных окраин империи, погрузив свой нехитрый скарб, отправлялись на ледащих лошадках с семьями в далекую неведомую Сибирь. Часто без средств, терпя голод, хороня по дороге детей и стариков, они шли туда, где была земля! Земля и воля!
Многие месяцы на пределе всех сил длился путь в неизвестность. На новом месте ни кола, ни двора, ни помощи. Первые годы жили в выкопанных землянках. Но разворачивался упорный мужик на земле, как с рогатиной на медведя шел он против неустроенности и тягот. Что ребятишек как гороха в доме, так не беда, потерпеть малость, войдут в силу, эх, работники будут, заживет мужик с Божьей помощью, только поворачивайся на земле, паши да сей, да строй крестовый дом! Землица есть да лошадка, в долг купленная, значит будет зерно и коровка, долги отдадим. А там и сыну первому свадьбу надо чинить: на всю округу грохнет крестьянушко! Пусть дивуется народ, да сплетники языки прикусят: был он голоштанным батраком-переселенцем, а теперь стал крепким хозяином, такого не сшибешь!
 На
Казанскую после отжинок в деревне был съезжий праздник. Из окрестных
сел и заимок съезжалась родня. Гуляли широко, всем миром, переходя из
дома в дом. (Наверно сильно бы они удивились, узнав, что их потомки
будут отмечать праздники в "тесном семейном кругу"). И работали во всю
силу и размах крепкого мужицкого плеча, на помочах, съединяясь в страду
несколькими семьями. Роднились с расчетом, и родства держались крепко.
На
Казанскую после отжинок в деревне был съезжий праздник. Из окрестных
сел и заимок съезжалась родня. Гуляли широко, всем миром, переходя из
дома в дом. (Наверно сильно бы они удивились, узнав, что их потомки
будут отмечать праздники в "тесном семейном кругу"). И работали во всю
силу и размах крепкого мужицкого плеча, на помочах, съединяясь в страду
несколькими семьями. Роднились с расчетом, и родства держались крепко.Врастал крестьянин в землю, как от крепкого груздя шла большая грибница детей и внуков. Гордился мужик своей родовой, если была она работящей. Гордился своим землепашеством, которым извека занимались его предки, и всей их мудростью учил он сыновей, как вести хозяйство, и ставить дом, и жить на земле, и ладить с людьми. Окромя земли и воли от государства и не требовал ничего.
И наступали пределы многим годам тяжелого крестьянского труда. Насыщенный днями, увидев внуков и правнуков, с миром отходил русский пахарь в вечный покой, ко отцам, исполнив все предначертанное ему от века, испив до одонья чашу земных печалей и радостей. Заветом главным оставлял он распаханное поле, в котором весь пот его, все упование и призвание, все труды и богатство сердца, и смысл земной жизни оставались в наследие потомкам. Смерть становилась успением, ложились натруженные руки поверх домотканной смертной одежи. И взирал на него с потемневших икон Господь, благословляя мужика-пахаря, в поте лица растившего хлеб на земле для живущих на ней.
 Сибирь
в конце 19 века называли Новой Америкой: по темпам, возможностям и
ресурсам она должна была обойти коренную Россию. Сама же Россия,
аграрная да мужицкая, вышла на первое место в мире по темпам
экономического роста. Д.И. Менделеев, исходя из темпов прироста
населения, прогнозировал его численность к 1950 году в 280 млн., а к
2000 г. в 590 млн. человек. И это при том уровне детской смертности!
Никакие времена конечно не стоит идеализировать. Не всем хватало
терпения, сил и фарта обустроиться на новой земле, далеко не все
становились зажиточными, для кого-то такая жизнь оказывалась невзъемной.
Немало было и ссыльных, и просто голытьбы. Но вот, что по настоящему
поражает, так это упорство тех, кто составлял костяк народа.
Сибирь
в конце 19 века называли Новой Америкой: по темпам, возможностям и
ресурсам она должна была обойти коренную Россию. Сама же Россия,
аграрная да мужицкая, вышла на первое место в мире по темпам
экономического роста. Д.И. Менделеев, исходя из темпов прироста
населения, прогнозировал его численность к 1950 году в 280 млн., а к
2000 г. в 590 млн. человек. И это при том уровне детской смертности!
Никакие времена конечно не стоит идеализировать. Не всем хватало
терпения, сил и фарта обустроиться на новой земле, далеко не все
становились зажиточными, для кого-то такая жизнь оказывалась невзъемной.
Немало было и ссыльных, и просто голытьбы. Но вот, что по настоящему
поражает, так это упорство тех, кто составлял костяк народа.В течении 19 века вся округа покрылась большими и малыми деревнями и селами, были распаханы земли. Наперекор суровой природе и чиновничьему произволу разворачивался крестьянин, семижильный, крепкой кости, с многовековым богатством терпения и привычкой к непрестанной работе. Сибирский смекалистый мужик, часто старовер, скупой на слово и щедрый на дело, был под стать сибирскому кедру. И почти у каждого имелась многодетная семья. Сегодня это кажется чудом, что эти семьи жили без всякой помощи государства, без пенсий, пособий, детсадов, без зарплаты. Кормил только упорный труд на земле. Труд ручной и изнурительный, в условиях более тяжелых, нежели сегодня. Но не опускал землепашец рук и не бросал пахотное поле.
Потом были революции, и были войны. И все вез и вывозил на своем горбу мужик, и на крови и костях его строилась новая страна, трудом и потом его, в бесправии и от его кровной собственности, его рук, зерна и скотины. Никто пахаря не жалел, не берег. Без счета и меры пускали в расход, гнали в лагеря на стройки века и верную гибель, штабелями укладывая в вечную мерзлоту, всей пригоршней черпая людские ресурсы для мирного ли строительства или для войны. Вековой строй жизни пошел в переверт и казалось тогда, что цель светлого будущего оправдывает любые средства, даже самые бесчеловечные, любую кровь и страдания.
Где-то там, наверху, в заоблачных высях новой советской власти, зрели великие планы о судьбах деревни. Слабому советскому государству в это время в условиях международной изоляции и борьбы за сохранения политического строя после кровопролитной и разрушительной гражданской войны до зарезу нужно было начинать ускоренную индустриализацию, без которой этот строй был обречен на уничтожение совне. Индустриализация же требовала огромных денежных средств, дешевого сырья и людских ресурсов для молодой промышленности и продовольствия для растущего населения городов. Главным и, пожалуй, единственным источником могло быть лишь крестьянство, за чей счёт она и стала проводиться.
Индивидуальное частнособственническое хозяйство крестьянина, дававшее ему независимость от государства, как и сам крестьянский класс со всеми его традициями и ценностями не вписывались в теорию социализма и противоречили самой сути нового государства, поэтому подлежали в дальнейшем ликвидации. Был лишь вопрос, как в аграрной стране заставить основную массу населения работать на государство.
Продразверстка в годы военного коммунизма исчерпала себя: крестьяне просто сокращали наделы, не желая даром отдавать хлеб. Продналог в эпоху НЭПа с одной стороны приводил к укреплению частного мелкотоварного хозяйства, независимого от государства, что вступало в противоречие с коммунистической идеологией и подрывало диктатуру партии, а с другой не давал ресурсной возможности осуществить "громадье планов". Не часть дохода требовалось взять от крестьянства, а весь доход. Единственным средством подчинить и заставить крестьянина работать на государство было отчуждение его от средств производства и участия в распределении произведенного продукта.
Говоря русским языком, необходимо было создать ту форму производства, которая получила название колхозного строя. Единоличник облагался налогом, имеющим одну цель: удушить его хозяйство и сделать его жизнь не завидной для колхозников. Ликвидация крепких хозяйств, в число которых попадали хозяйства вплоть до бедняцких, обеспечила образовавшиеся колхозы материальной базой. В отношении остальных агитация по вступлению в колхоз велась до ярости, угроз и мордобоя. По воспоминаниям жительницы Киряевой Стюры, несогласных мужиков били и запирали в амбаре, давая время крепко подумать.
Еще в начале 20-х годов за счет имущества зажиточных сельчан беднота организовала коммуну, память о которой до сих пор хранится у местных жителей. Расположилась она в верховьях Шуши, за изгибом ее старицы. Но дальше митингов да отдельных попыток начать хозяйство дело не пошло, и коммунары разбежались.
Н. Голдырева-Афанасенко, родившаяся в Тагашете, вспоминает о том страшном времени, когда ее семью раскулачили: "Младших детей было четверо, брат был женат, его супруга работала в колхозе. Была у нас корова, три овечки, пять гусей, пятнадцать куриц. И вот пришли к нам представители сельского совета во главе с председателем Некрасовым. Забрали все вещи, вплоть до постели. Из погреба вытащили кадки с солониной. Было это в апреле, мы сидели на подоконниках и плакали о корове, которая недавно только растелилась. Всю животину увели. На следующий день нас из дома выгнали, председатель Некрасов вселил в наш дом свояченицу Мамкаеву с мужем.
Мы неделю жили в амбаре, но и тут нам житья не стало. Пришлось нам переехать в рядом стоящий выселок Бесь, в колхоз имени Калинина. Тут нас приняли добрые люди, сами они уехали потом в город, а нам оставили дом. В этом дому мы и прожили до мая 1936 года. 10 мая ночью за отцом пришли, арестовали и увели. Я до сих пор помню ту страшную ночь и туманное утро. Когда отца повели, уже начало светать. Мама вывела нас на улицу за ворота, и мы стояли полураздетые. Нам не дали подойти к отцу. Он только успел сказать маме: "Береги, мать, детей!". Был он выше среднего роста, с темно русыми волосами. А когда сидел на дрожках, весь почернел и сжался в комок, стал такой болезненный... Так с тех пор мы ничего и не знаем о дорогом и любимом отце". С этого начинался колхоз "Красный Тагашет".
В стороне от деревни, до сих пор упоминаемое место отселения называется Калинчиками, и лишь малый островок задичавшего кладбища напоминает об исчезнувшем выселке и его жителях. Около 70 глав хозяйств Тагашета коснулись репрессии, а если брать со всеми их домочадцами, то это около 300 человек! (См. http://www.memorial.krsk.ru/...). Возле каждой деревни появлялись подобные выселки "кулаков" и "врагов народа": до чего же нужно быть упорным, чтобы с нуля на новом месте снова отстраиваться и распахивать землю. Но шли чистки, потом грянула война - и сравняло их с землей.
Если заглянуть в архиве в личные дела "кулаков", то почти на каждого можно увидеть не один и не два, а целую подшивку доносов, зачастую безграмотных, кой-как выведенных необыкшей к перу рукой односельчанина. Писали их из страхи и зависти, из соображений идейных и шкурных. Сколько же этих доносов, за которыми высылка или расстрел! Не нам, живущим в воровские времена, судить о том, но мы должны со всей трезвостью посмотреть правде в глаза: со лжи и предательства, всеобщего грабежа и насилия начинался на селе новый советский строй, тем же и кончившийся.
Вся земля стала по своей сути не крестьянской, а государственной. "Государственное крепостничество" достигло своего зенита. До начала 60-х годов колхозники не имели паспортов, пенсий, работа шла за "палочки" - трудодни, по количеству которых начислялась продуктами плата. "Пешками" порой жители Тагашета ходили до Минусинска, чтобы выменять продукты на керосин, соль, ткань. На редких деревенских фотографиях тех лет вместо нарядной Руси бабы и мужики в замызганных фуфайках и телогрейках с усталыми лицами и недвижным тяжелым взглядом. В воронку раскулачивания и репрессий занесло самую крепкую кость, хозяина-землепашца, всех кто имел свое мнение. Мало кто выплыл, а выплывших подъела война. Так начался великий разрыв крестьянина с землей, ставшей государственной, на которой ему отводилась роль сперва подневольного, а позже наемного работника, но никак не хозяина.
С началом механизации сельского хозяйства, дела вроде благого, начался второй этап отчуждения от земли, когда крестьянин стал "сельхозрабочим". И техника вроде стала появляться в Тагашете после военной разрухи, и склады, и гаражи, и дома государством строились, - только все это не принадлежало крестьянину. Оттого с такой легкостью было растащено совхозное добро, и никто не встал на защиту "народного достояния" - так было почти везде и всюду. От ставшей постылой земли и работе на ней бежали в город. А кто оставался, уже работал как придется: чего стараться, если твоя невеликая зарплата не от урожая зависит, а от нормы или рабочего дня.
Помнится всеобщее воровство, помнятся тощие совхозные коровы, которых кормили гнилым сеном из горбатых, уродливо смеченных и пролитых дождем зародов, помнятся поля, на авось вспаханные… Словно затяжная болезнь после советского времени в наши дни перешла в долгую и мучительную смерть. Государство бросило оторванных от земли и отвыкших хозяйствовать на ней людей так же легко, как когда-то с легкостью на заре колхозного строя грабило их хозяйства и пускало в расход хозяина.
 Путём
раскулачивания и репрессий деревня лишилась не только наиболее
состоятельного, но и наиболее передового, предприимчивого и
хозяйственного слоя, носителя глубоких многовековых
хозяйственно-трудовых навыков и традиций. Ведь так называемый кулак по
своей сути представлял собой продукт экономической селекции, наиболее
удачливый и предприимчивый хозяин своей земли. И вышел этот хозяин до
остатка, был выбит ради послушного советского работника, за невеликую
плату готового работать на государство и уже не могущего обойтись без
него. Остались механизаторы, наемные сельхозрабочие, и нюхом не
нюхавшие, что значит иметь свою землю и обрабатывать ее. Даже когда
годами не платили денег, тагашетские мужики предпочитали начать пить,
чем пытаться развернуть свое хозяйство.
Путём
раскулачивания и репрессий деревня лишилась не только наиболее
состоятельного, но и наиболее передового, предприимчивого и
хозяйственного слоя, носителя глубоких многовековых
хозяйственно-трудовых навыков и традиций. Ведь так называемый кулак по
своей сути представлял собой продукт экономической селекции, наиболее
удачливый и предприимчивый хозяин своей земли. И вышел этот хозяин до
остатка, был выбит ради послушного советского работника, за невеликую
плату готового работать на государство и уже не могущего обойтись без
него. Остались механизаторы, наемные сельхозрабочие, и нюхом не
нюхавшие, что значит иметь свою землю и обрабатывать ее. Даже когда
годами не платили денег, тагашетские мужики предпочитали начать пить,
чем пытаться развернуть свое хозяйство.Все было ожидание, что, может, обойдется, и будет зарплата. Потом долго ждали барина-фермера, который приедет и всех возьмет к себе на работу. В конце концов все было пущено на слом. Земля, ставшая свободной, оказалась никому не нужной. И сколько горечи в словах певца этой земли В. Астафьева: "Это вот и есть смысл всей человеческой трагедии, это и есть главное преступление человека против себя, то есть уничтожение хлебного поля, сотворение которого началось миллионы лет назад с единого зёрнышка и двигало разум человека, формировало его душу и нравственность, и большевики, начавшие свой путь с отнимания и уничтожения хлебного поля и его творца, - есть самые главные преступники".
Умирает деревня. Опустошенная и разоренная до края, в нищете и безвестии перестает быть. Ушли старожилы, разорваны родовые связи, оставлена земля и забыто небо. Земля и вера отцов не нужны сыновьям. Лишь протяжное веянье осенних ветров как голодный бег бесприютной волчьей стаи раскинулось над непахаными полями. Исчезает не просто "населенный пункт", обрывается многотысячелетняя нить, иссыхает река жизни, струившаяся в преемстве поколений. Прежняя крестьянская Россия с ее верой, ее бытом и укладом, сказками, рушниками и резными наличниками, песнями и преданиями уходит безвозвратно. Из всего этого богатства ничего или почти ничего не задержалось в нас, современниках этой трагедии. Никто не знает ни веры предков, ни песен их, ни всего того, что называется народным, кроме разве что заборной и нечистой матершинины.
Не стоит валить все на власть, коли пастухи и комбайнеры из народа возглавляли его. Частенько она смотрела на мужика татарином-ордынцем, взимая дань хлебом и кровью, хоть и была она от плоти его, да только забывавшая это родство. Беда случилось в тот момент, когда подмят он был своей "народной" безбожной властью, отступая от веры и отдавая землю. Во всеобщем безумии было и отречение, и падение, уход в татарский подневольный полон.
Земля остается землей, рождающей хлеб, а человек человеком, живущем в нужде об этом хлебе. И эта нужда поздно или рано заставит вернуться на землю. Только будет ли это русский народ? В 2007 году рядом с Тагашетом, на луговине, которую никогда не распахивали допреж того, стали трудиться завезенные китайцы, поднимая целинную землю, в грязи, живя в дощатых бараках, готовые в них зимовать... Тогда жители поднялись всем миром, китайцев выселили, и с тех пор никто землю не трогает. Китайцы и таджики имеют сегодня упорство в труде и волю к жизни более нас. Над этим стоит задуматься.
 Не
90-е годы стали причиной массового пьянства и развала в стране, гибели
деревни, не некий непонятный "кризис ценностей". Причины лежат куда
глубже. Слово "кризис" в переводе с древнегреческого означает "суд".
Наше время стало судом истории, явным, публичным судом, на котором была
явлена правда и ложь о тех временах и о нас с вами, ныне живущих. Нельзя
построить счастья и благоденствия, которое не кончится крахом, на
насилии и грабеже, на костях и крови народа. Начавшееся с грабежа,
грабежом закончилось. И колхозный строй более всего в этом отношении
показателен.
Не
90-е годы стали причиной массового пьянства и развала в стране, гибели
деревни, не некий непонятный "кризис ценностей". Причины лежат куда
глубже. Слово "кризис" в переводе с древнегреческого означает "суд".
Наше время стало судом истории, явным, публичным судом, на котором была
явлена правда и ложь о тех временах и о нас с вами, ныне живущих. Нельзя
построить счастья и благоденствия, которое не кончится крахом, на
насилии и грабеже, на костях и крови народа. Начавшееся с грабежа,
грабежом закончилось. И колхозный строй более всего в этом отношении
показателен.Суд истории не есть фигура речи. Это суд наших предков, из рода в род обживавших эту землю, возделывавших ее и хранивших в непрестанном труде, защищавших в ратном подвиге до крови и смерти. Земля наша есть земля всего рода человеча, земля отцов, ими освоенная и переданная нам, и мы не вышли из небытия, но являемся представителями его и продолжателями. И в нас род осуждается или оправдывается, ибо мы его плод. На словах говоря "ничто не забыто", делами мы отрекаемся этих слов. И труд, и пот, и кровь наших предков помним ли мы? Обезлюживают те земли, за которые они умирали, покрываются лесом поля, ими раскорчеванные и распаханные.
Наше отсутствие воли к жизни, безверие и беспамятство похожи на предательство и дезертирство с занятых ими рубежей. Если у Бога все живы, то какими глазами сейчас наши предки взирают на нас. Мы оторваны от земли, ибо не возделываем ее, мы оторваны от неба, ибо не верим в Бога, мы оторваны от своего рода, ибо не продолжаем его дел и не помним даже имен, оставляя после себя одного-двух детей, а остальных вычищая в абортарии. Слишком много выпало на весь безумный 20 век разрывов и отречений. Лишь в возвращении к труду на земле, благодатном, хранящем человека телесно и духовно, мы можем войти в родовое единство, единство народно-общинное, трудом и молитвой съединяя землю и небо.
Как тут не привести слов В. Астафьева: "И когда воскреснет хлебное поле, воскреснет и человек, а, воскреснув, он проклянет на веки вечные тех, кто хотел приучить его с помощью оружия, кровопролития, идейного кривляния, словесного обмана добывать хлеб... Боже Милостливый, Спаситель наш, вразуми человека, разожми его руку, стиснувшуюся в кулак, рука эта создана для приветствия и труда, как хлебное поле, сотворено им для жизни и счастья… О хлебное поле, о горе горькое, как ты сейчас похоже на отчизну свою, Россию..,- ведь ничего ж на крови и на слезах, даже коммунизма, не прорастает, всему доброму нужна чистая, любовно ухоженная земля, чистый снег, чистый дождь, да Божья молитва…. Ничто так не постоянно, ничто так не нужно землянину, как хлебное поле. Кто, почему, зачем нарушил естественный ход природы? Зачем межа бурьяна и злобы, ненависти и бесчеловечности проросла, разъединила нас? Хлебопашцы всех земель всегда понимали и поймут друг друга, но пашенный труд - достойный разума, и труд этот освящен вечностью".
Послесловие
Не ради сведения идеологических счетов, обличения или очернительства писал я эту статью. Нужно понять истоки сегодняшней трагедии деревни, заключающихся в отрыве от своих корней, от родового единства, которое выражается не только в единстве крови, но прежде всего в единстве веры и труда по созиданию жизни на этой земле. Моя деревня, в которой родился я и вырос, моя малая родина, где могилы моих родных, умирает в нищете и пьянстве.
 Предки
мои насколько хватает родовой памяти, из крестьян. Но что я могу
сказать о своем ныне разбитом и разметанном роде, забывшем о земле и
небе? Боль за свою землю испытывает каждый, кто видит эту разруху и
безнадежность в местах, дорогих и близких его сердцу. Сегодня таких
деревень тысячи. Само слово "деревенский" стало звучать уничижительно
как характеристика чего-то хамского, невежественного и неопрятного.
Продолжается исход из деревни в "цивилизацию", "культуру" и
"благоустроенность". Но как сердцу принять и поверить, что есть что-то
выше труда хлебопашца на земле, что какая-нибудь офисная работа
нравственнее, необходимее и чище его?
Предки
мои насколько хватает родовой памяти, из крестьян. Но что я могу
сказать о своем ныне разбитом и разметанном роде, забывшем о земле и
небе? Боль за свою землю испытывает каждый, кто видит эту разруху и
безнадежность в местах, дорогих и близких его сердцу. Сегодня таких
деревень тысячи. Само слово "деревенский" стало звучать уничижительно
как характеристика чего-то хамского, невежественного и неопрятного.
Продолжается исход из деревни в "цивилизацию", "культуру" и
"благоустроенность". Но как сердцу принять и поверить, что есть что-то
выше труда хлебопашца на земле, что какая-нибудь офисная работа
нравственнее, необходимее и чище его?Невозможно поверить, что наше великое народное прошлое было напрасным, и мы и дальше будем вымирать в пьяном похабном мороке, в бездействии, что ждет нас незавидная участь ушедших в историческое небытие народов. Россия как после затяжного кровавого погрома татар разбита и разобщена. Но как тогда возрождение и созидание началось с подвига святости преп. Сергия Радонежского, так и сегодня нас ждет подвиг святости и нравственного исправления, очищения от скверны безверия и праздности. Из тех времен взывают к нам предки-русичи, князья, вои и пахари: "Не срамите земли Русской! Вставайте все на великое собирание ее, как на битву - трудом и молитвой! Поднимайте землю! Без страха принимайте бой! С нами Бог и правда Его!"
Диакон Олег Курзаков
Подписаться на:
Сообщения (Atom)

